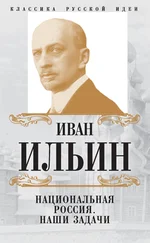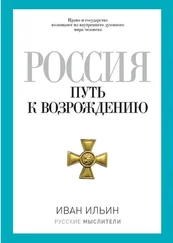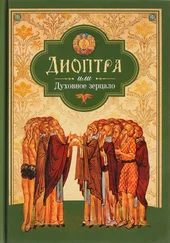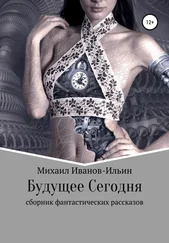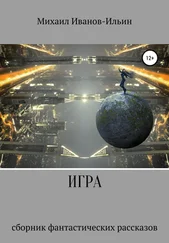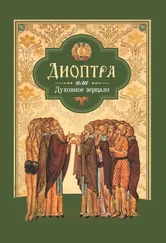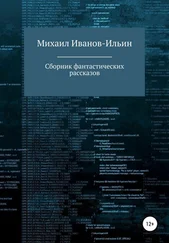Характерна в этом отношении дифференциация Гуссерлем «математиков и философов», как и «разделения труда» между ними. «Построение теорий, строгое и методическое разрешение всех проблем, – пишет Гуссерль, – навсегда останется специальной областью математика. <���…> Но если разработка всех подлинных теорий принадлежит области математика, что же тогда остается философу? Здесь надо обратить внимание на то, что математик на самом деле не есть чистый теоретик, а лишь изобретательный техник, как бы конструктор, который, имея в виду только формальные связи, строит теорию как произведение искусства. Как практический механик конструирует машины, не нуждаясь в законченно ясном знании сущности природы и ее закономерности, так и математик конструирует теории чисел, величин, умозаключений, многообразий, не нуждаясь для этого в окончательном уразумении сущности теории вообще и сущности обусловливающих их понятий и законов. <���…> Именно поэтому, наряду с изобретательной и методической работой отдельных наук, направленной больше на практическое выполнение и овладение, чем на действительное уразумение, необходима постоянная “познавательно-критическая”, составляющая дело одного только философа, рефлексия, которая руководится одним только чисто теоретическим интересом и служит к осуществлению последнего. Философское исследование предполагает совершенно иные методы и тенденции и ставит себе совершенно иные цели. Оно не хочет вмешиваться в дело специалиста-исследователя, а стремится уразуметь смысл и сущность его действий в отношении метода и вещи. Философу недостаточно того, что мы ориентируемся в мире, что мы имеем законы, как формулы, по которым мы можем предсказывать будущее течение вещей и восстанавливать прошедшее; он хочет привести в ясность, что суть по существу “вещи”, “события”, “законы природы” и т. п. И если наука строит теории для систематического осуществления своих проблем, то философ спрашивает, в чем сущность теории, что вообще делает возможной теорию и т. п. Лишь философское исследование дополняет научные работы естествоиспытателя и математика и завершает чистое и подлинное теоретическое познание». [17]
Критикуя математика и логика Больцано, Гуссерль еще раз подчеркивает различие между математикой и феноменологией: «Он (Больцано. – Ю. Л .) держал это понятие перед глазами как цель точно так, как арифметик держит перед глазами число, – установка последнего направлена на операции с числами, а не на феноменологические проблемы соотношения числа и сознания числа. Здесь в сфере логики, как и вообще, этому великому логику была совершенно чужда феноменология». [18]
Все это оказалось близким Ильину и в каком-то смысле схожим по образу его мышления: Гуссерль и Ильин были очень сильными аналитиками , умевшими тонко различать (дифференцировать) многие понятия (ср. методологические ряды [19]в первой научной работе Ильина «Понятия права и силы», 1910, и последующем различении вежливости, любезности и деликатности в социально-психологическом опыте «О любезности», 1911). Правда, к тому времени Ильин уже тяготился такой односторонней аналитикой и стремился к дополняющему ее глубокому синтезу, что отличает его от Гуссерля, так и проведшего всю свою жизнь в бесчисленных и непостижимых для человеческого ума, если не сказать невероятных, дифференциациях. Объективности ради нужно отметить, что Гуссерль планировал (последние страницы «Идей I») в будущем рассматривать и осуществлять многообразные «феноменологические синтезы», «прасинтезы», «непрерывные синтезы», «почленные, или дискретные, синтезы», «синтетические операции, конституируя посредством их предметности все более и более высокой ступени», «коллигирующие (собирающие), дизъюнгирующие (направленные на “это или то”), эксплицирующие, сопрягающие», «осуществляя такие синтезы действительно в собственном смысле, т. е. в синтетической первозданности» и «прояснять синтетические образования синтетическим созерцанием», но, кроме демонстрации такого изобилия дифференциаций «интеграций» (т. е. «синтезов»), ничего не последовало. [20]И в томе II «Логических исследований» речь идет о синтезе, [21]но он занимает там более скромное место, чем «тотальный анализ».
Но, пожалуй, главной заслугой и достижением Гуссерля была беспощадная критика современного ему эмпиризма и психологизма , которые, по его мнению, вели к релятивизму и скептицизму. Выделение Гуссерлем трех уровней (по терминологии Ильина, «трех методологических рядов») – эмпирического, психологического и эйдического – и не смешивание их в процессе познания имело решающее методологическое значение. Позже супруга Ильина будет рассматривать проблему «Одиночества и общения» именно в этих трех сферах человеческой жизни: эмпирической, психологической и духовной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу