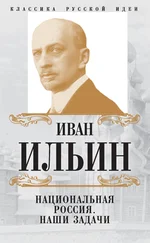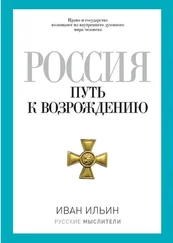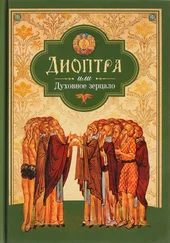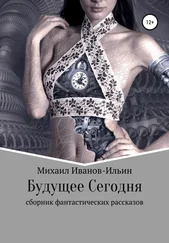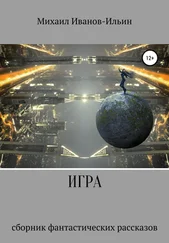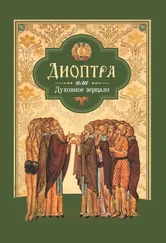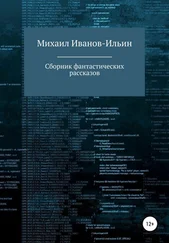См., например, с. 61 наст. тома. С другой стороны, в более ранних лекциях Ильин не исключал эту альтернативу: «Доказательство – обнаружение тех мысленных связей, в силу которых созревшее суждение приемлется как истинное; ступени доказательства; ряд или бесконечен, или обрывается суждением необосновываемым – истиной самоочевидной; в обоих случаях нужен максимум, обыкновенно целесообразно находимый научным тактом; в первом случае максимум количественный, во втором – качественный» (с. 230 наст. тома).
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. С. 130.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. С. 180.
Там же. С. 181
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. С. 246.
Там же. С. 64. Совсем уж материалистическая установка.
Там же. С. 30.
Там же. С. 180.
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 3. С. 53.
Бог, демон или l’aventure (случайность. – Ю. Л .).
Срв. мой опыт «Философия как духовное делание». Русская Мысль. 1915 г. Кн. III.
Древний раб был также субъектом права, хотя не был полноправным, свободным и равным гражданином. См. мой опыт «Общее учение о праве и государстве» в коллективном труде «Основы Законоведения». Изд. Думнова. М. 1915. § 12.
Гегель приводит пример с тираном Дионисием, повесившим текст законов так высоко, что его никто не мог прочесть.
Я пытался подробно развить и обосновать это воззрение в статье «Понятия права и силы» // Вопр. Фил. и Псих., 1910. Книга 1. Эта статья была издана и в виде отдельной брошюры.
Под «смыслом» я разумею здесь не «метафизическую силу», и не «абсолютное достоинство», и не «творческую цель», но чисто «логическое», тождественное, отвлеченное (от образа и от акта мысли), непространственное и невременное, нечувственное и необразное содержание, постольку «объективное» и «идеальное», специфически постигаемое актом «чистого мышления». Целостное выяснение его природы требует, конечно, самостоятельного исследования. К сожалению, этим термином иногда злоупотребляют в философской литературе, особенно умы, не привыкшие к дифференцированному мышлению и стремящиеся построить «систему» на основе единого термина со смутным содержанием.
Здесь возникает сложный вопрос: откуда взять материал для этих логических определений? Ведь положительное право очень часто пользуется юридическими терминами, не определяя их, так, как если бы их значение «само собою» разумелось и было известно каждому. Высокое развитие научной теории и правосознания делает излишним чрезмерное перегружение норм логическими дефинициями: законодатель (но не научный комментатор) может считать, что многие термины уже установлены в науке и усвоены народным правосознанием в их устойчивом и определенном значении. И тем не менее следует признать, что право тем совершеннее в формальном отношении, чем более оно продумано и чем более прямых определений содержится в его нормах; ибо в научной теории всегда остается спорное, а в правосознании – неустойчивое и подверженное влиянию частного интереса. Это не значит, что право должно исчерпывающе предусмотреть и педантически регламентировать все единичные детали жизни; нет, здесь всегда будет многое предоставлено на усмотрение правосознания правоприменяющего субъекта. Но то, что сказано и установлено в норме, должно быть раскрыто и фиксировано в ней недвусмысленно. Как бы широко ни использовал комментатор сравнительное изучение того же самого кодекса, пояснительные документы законодателя, бесспорные данные научной теории и все средства, ведущие к уразумению объективного смысла закона, он всегда будет иметь в остатке известную совокупность неопределяющихся терминов, и задача его в том, чтобы открыто разграничить добытый им точный смысл закона от предлагаемого им лично истолкования. Вся сила логического комментирования должна быть направлена на то, чтобы иметь в виду, разуметь и отличать смысл, данный в законе, от всякого добавления, из каких бы благородных соображений оно ни проистекало.
Это относится и к нормам «обычного права», возникающим в тот момент, когда правоприменяющий урган формулирует, признает обязательным и применяет простой обычай правового общения. Я пытался показать это в § 20 моего «Общего учения о праве и государстве».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу