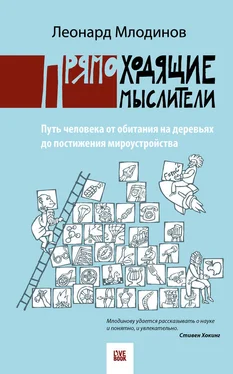Первая запинка на пути Менделеева к идеальному учебнику – как организовать материал. Менделеев решил поделить элементы и их соединения на группы, или семейства, согласно их свойствам. Выполнив сравнительно простую задачу – описав галогены и щелочные металлы, – он задался вопросом, о какой совокупности элементов писать дальше.
В случайном порядке? Или, может, сформулировать принцип, в согласии с которым установить порядок?
Менделеев сражался с этой задачей, вглядываясь в глубины обширного химического знания в поисках подсказок, как могут соотноситься друг с другом различные группы элементов. Однажды в субботу он настолько ушел в работу, что провел без сна всю ночь и утро. Так ничего и не добился, но что-то подтолкнуло его записать названия элементов из групп кислорода, азота и галогенов, итого двенадцать элементов, на обороте конверта – в порядке увеличения их атомных масс.
И тут вдруг он заметил поразительную закономерность: список начинался с азота, кислорода и фтора – легчайших членов своих групп, а затем продолжился вторыми по массе, тоже по порядку, и так далее. Список, иными словами, сложился повторяющимся, или «периодическим», узором. И лишь два элемента этой закономерности не поддерживали.
Менделеев сделал свое открытие еще отчетливее, разместив группы элементов в ряд, а ряды друг над другом, и получилась таблица. (Ныне мы записываем группы колонками.) Правда ли есть в этом что-то? А если эти двенадцать элементов и впрямь образуют осмысленную последовательность, впишутся ли в эту схему остальные известные в то время пятьдесят один?
Менделеев с друзьями любил раскладывать карточные пасьянсы – располагать игральные карты в определенном порядке. Из карт получалась таблица, которая, как он впоследствии вспоминал, выглядит очень похоже на ту, из двенадцати элементов, которую он в тот день изобразил. Решив записать названия и атомные массы всех известных элементов на карты и попытаться составить из них таблицу, он разложил, по его словам, «химический пасьянс». Принялся перекладывать карты так и эдак, пытаясь разместить их в осмысленном порядке.
В подходе Менделеева был серьезный изъян. Во-первых, было неясно, к каким группам некоторые элементы принадлежат. Свойства других к тому времени оставались непонятыми. Были и разногласия в отношении атомных масс одних элементов, а массы, присвоенные другим элементам, – попросту ошибочны. А во-вторых, что важнее, были и элементы, которые еще предстояло открыть, и из-за этого предположенная закономерность давала сбой.
Все эти трудности усложняли Менделееву задачу, но было и еще кое-что – нечто более тонкое: не хватало оснований считать, что схема, основанная на атомных массах, – непременно рабочая, поскольку никто в то время не понимал, какой аспект химических свойств связан с атомной массой. (Теперь-то мы знаем, что это число протонов и нейтронов в атомном ядре, и что масса, приходящаяся на нейтрон, никак на химические свойства вещества, состоящего из тех или иных атомов, не влияет.) И вот тут-то упрямство Менделеева поддержало его страсть достичь цели: он продолжил сражаться, основываясь исключительно на интуиции и вере.
Работа Менделеева куда буквальнее многих других показывает: научный процесс – решение головоломок. Но она еще и иллюстрирует важное отличие: в отличие от головоломки, купленной в магазине, кусочки мозаики, которую складывал Менделеев, не стыковались друг с дружкой. Частично в науке и полностью – в новаторстве временами бывает важно не обращать внимание на особенности дела, вроде бы подсказывающие, что ваш подход никак не может быть состоятельным, и верить, что какой-нибудь обходной путь все же найдется, или что эти особенности не будут иметь значения. Менделеев, благодаря поразительной одаренности и чрезвычайной настойчивости, собрал свою картинку, переделав одни части мозаики и выдумав с нуля другие.
Представлять достижение Менделеева в героическом свете задним-то числом просто – видимо, так оно и выглядит в моем описании. Пусть ваши взгляды отдают безумием, если они действенны – мы сотворим из вас героя. Но тут есть и оборотная сторона: за века накопилось множество безумных схем, оказавшихся в итоге ошибочными. Работающих систем гораздо меньше, чем неработающих. Ошибочные быстро забываются, а часы, дни и годы работы тех, кто в них верил, потрачены, как оказывается, впустую. И часто мы зовем поборников этих систем неудачниками и чокнутыми. Но героизм – это готовность рисковать, и потому героизм исследования, успешного или провального, – в риске, который берем на себя мы, ученые и новаторы, а это долгие часы и дни, месяцы или даже годы яростной интеллектуальной борьбы, коя может привести к плодотворному завершению и результату, а может и нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу