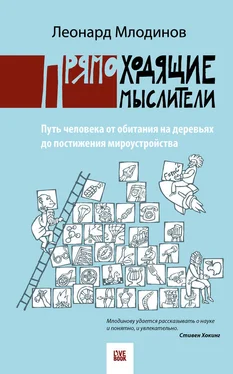Вполне логично, что Пристли оказался в химии благодаря интересу к побочному продукту коммерческой деятельности: с приходом промышленной революции в конце XVIII века наука и производство начали подвигать друг друга ко все более впечатляющим достижениям. В предыдущем веке от науки получилось очень немного непосредственного практического прока, однако ближе к концу XVIII века успехи науки полностью преобразили повседневность. Прямые результаты союза науки и промышленности – паровой двигатель, использование энергии воды на фабриках, развитие механизированных инструментов, а позднее и появление железных дорог, телеграфа и телефона, электричества и электрических лампочек.
Пусть на ранних этапах, около 1760-х годов, промышленная революция и опиралась на замыслы изобретателей-кустарей, а не на открытие новых научных принципов, она тем не менее подпитала склонность богатых людей поддерживать науку как способ развивать производство. Один такой увлеченный наукой состоятельный покровитель – Уильям Петти, граф Шелбёрнский. В 1773 году он устроил Пристли библиотекарем и учителем своим детям, а еще оплатил организацию лаборатории и выделил ученому много свободного времени для исследований.
Пристли был изобретательным и дотошным экспериментатором. У себя в новой лаборатории он взялся ставить опыты над ртутной окалиной, то есть «ржавчиной» ртути. Химики того времени знали, что при нагревании до получения окалины ртуть что-то забирает из воздуха, но не знали, что. Любопытно, что при дальнейшем нагревании окалина опять превращалась в ртуть, по-видимому, выбрасывая в воздух то, что поглотила из него вначале.
Пристли обнаружил, что газ, выделяемый из ртутной окалины, имеет удивительные качества. «Это воздух превосходного свойства, – писал он. – Свеча горит в нем с поразительной силой пламени… Но, чтобы полностью доказать высокое качество этого воздуха, я поместил в него мышь; в количестве его таком, что, будь это обыкновенный воздух, мышь умерла бы примерно через четверть часа. она провела целый час, и изъята была вполне бодрой» [244] J. Priestley, «Observations on Different Kinds of Air», Philosophical Transactions of the Royal Society , 62 (1772), стр. 147–264.
. Пристли и сам попробовал «превосходный» воздух – то был, разумеется, кислород: «В легких у меня я не ощутил разницы между ним и обычным воздухом; но мне почудилось, что в груди у меня ненадолго стало примечательно легко и свободно». Быть может, рассуждал он, таинственный газ станет популярным новым баловством среди богатых бездельников.
Пристли не заделался поставщиком кислорода богатеям. Он продолжил изучать этот газ. Поместил в сосуд с ним темную свернувшуюся кровь и обнаружил, что та сделалась ярко-красной. Еще он заметил, что, если оставить темную кровь в маленьком закупоренном пространстве, она впитывала этот газ и краснела, а животные, помещенные в этот же сосуд после покраснения крови, задыхались насмерть.
Пристли сделал из этих наблюдений вывод: наши легкие взаимодействуют с воздухом, чтобы оживить в нас кровь. Он поставил опыты над мятой и шпинатом и обнаружил, что растения могут восстанавливать способность воздуха поддерживать и дыхание, и горение – иными словами, он первым заметил результаты процесса, который мы ныне зовем фотосинтезом.
Хотя Пристли многое узнал о свойствах кислорода, и часто говорят, что именно он открыл этот газ, его значения в процессах горения Пристли не понял. Напротив, он присоединился к расхожей, но затейливой теории того времени, что предметы горят не потому, что соединяются с чем-то в воздухе, а потому что выделяют нечто под названием «флогистон».
Пристли провел знаменательные эксперименты, но не смог понять, что же они знаменуют. Объяснить подлинное значение экспериментов Пристли выпало на долю француза по имени Антуан Лавуазье (1743–1794) 1– это он понял, что дыхание и горение суть процессы, при которых из воздуха поглощается нечто (кислород), а не высвобождается флогистон.
* * *
Что область знания, начавшаяся алхимией, дорастет до математической строгости Ньютоновой физики, казалось зряшной мечтой, однако многие химики XVIII века в нее верили. Бытовало даже суждение, что силы притяжения между атомами, составляющими вещества, в сути своей гравитационные по природе, и ими можно объяснять химические свойства. (Ныне мы знаем, что они были правы, вот только силы эти – электромагнитные.) Подобные соображения выдвинул Ньютон, утверждавший, что «действующие силы природы способны заставлять частицы тел [то есть атомы] объединяться очень сильным притяжением. Дело экспериментальной философии выяснить их» [245] Isaac Newton, Opticks, ed. Bernard Cohen (London, 1730; New York: Dover, 1952), стр. 394. Ньютон впервые опубликовал «Оптику» в 1704 году, но окончательные соображения по этой теме представлены в четвертом издании, последнем, пересмотренном Ньютоном лично; оно увидело свет в 1730-м.
. Такова была одна из забот химии – вопрос о том, насколько буквально взгляды Ньютона в физике можно распространять на другие науки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу