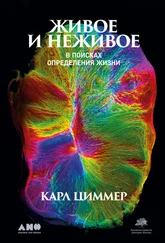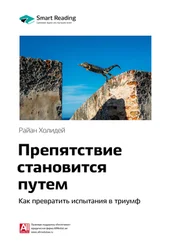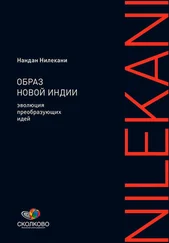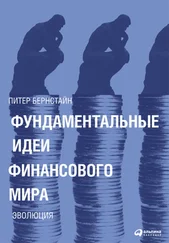По мере роста численности групп гоминид увеличивалась и сложность взаимоотношений внутри группы. Данбар считает, что, после того как группа перешагнула определенный порог численности, принципы взаимоотношений, принятые у приматов, перестали действовать. Один из важнейших и самых распространенных способов, которыми приматы демонстрируют друг другу свою привязанность, — это помощь в уходе за шерстью и телом, так называемый груминг. Такой уход не просто помогает избавиться от вшей и других кожных паразитов, но и успокаивает. Приматы превратили груминг в своего рода социальную валюту, за которую можно приобрести расположение других членов стаи. Но груминг занимает много времени, и чем больше численность группы, тем больше времени приматы тратят на вычесывание друг друга. Павианы-гелада, к примеру, живут в саваннах Эфиопии группами в среднем по 110 особей и вынуждены тратить 20% времени бодрствования на уход друг за другом.
Размеры мозга гоминид позволяют предположить, что 100 000 лет назад численность группы достигла 150 человек, и в этот момент груминг как средство социального взаимодействия потерял смысл. «Обычный день просто не вмещает столько груминга, — говорит Данбар. — Если представить, что группу из 150 особей должно связывать между собой лишь одно — взаимный груминг, как у приматов, то членам группы пришлось бы тратить на него 40–50% всего времени бодрствования. Это было бы просто чудесно, ведь груминг прекрасно расслабляет и заставляет испытывать теплые дружеские чувства по отношению ко всему миру. Но это непрактично. Если надо идти в саванну и искать там пропитание, у вас просто нет такого количества свободного времени».
Гоминидам нужен был более практичный связующий элемент. Данбар считает, что именно эту роль взял на себя язык.
Происхождение языка по-прежнему является одной из величайших загадок эволюционной биологии. Речь не может обратиться в камень и потому не оставляет после себя материальных свидетельств. До начала 1960-х гг. большинству лингвистов даже не приходило в голову, что язык может быть, строго говоря, продуктом эволюции. Считалось, что это просто культурный артефакт, изобретенный человеком в какой-то момент истории — изобретенный точно так же, как можно изобрести каноэ или кадриль.
Одним из поводов так думать было представление лингвистов о том, как мозг порождает и воспринимает речь. Если считать, что мозг — это универсальный процессор для обработки информации, то можно сделать вывод: чтобы научиться говорить, младенец просто старается определить при помощи мозга значение слов, которые слышит. Однако Ноам Хомский, лингвист Массачусетского технологического института, защищает противоположную точку зрения: младенец рождается с готовым набором базовых правил грамматики, намертво встроенным в структуру его мозга. Как еще, спрашивает Хомский, можно объяснить тот факт, что во всех языках Земли существуют одинаковые грамматические структуры, такие как существительное и глагол? Как иначе может ребенок освоить все богатство языка всего за три года? Слова в языке столь же случайны, как даты в истории. Никто не ждет, что трехлетний ребенок выучит наизусть хронику Пелопонесской войны. И в то же время дети не только выучивают отдельные слова, но и быстро начинают пользоваться ими и открывать таким образом для себя правила грамматики. Мозг человека, утверждает Хомский, должен быть с самого начала настроен на восприятие языка.
Исследования, проведенные после 1960-х гг., показывают, что в мозгу человека имеются особые языковые модули, аналогичные тем, что помогают различать контуры или обеспечивают социальный интеллект. Мозг использует эти модули для хранения правил грамматики, синтаксиса и семантики — всех тех обязательных ингредиентов, которые обеспечивают смысл и сложность языка. Лингвисты видят работу языковых модулей в ошибках, которые часто делают маленькие дети при освоении языка. Они пользуются стандартными правилами при образовании множественного числа или форм глаголов, которых на самом деле не существует, таких как «мясо» — «мясы» или «победить» — «победю». Маленькие дети легко укладывают в мозгу правила грамматики, а вот запоминать чисто механически исключения им пока трудно.
Дополнительные доказательства можно получить при изучении некоторых типов мозговых травм, при которых человек лишается способности пользоваться языком или отдельными его компонентами. Некоторые люди испытывают затруднения только с именами собственными или словами, обозначающими животных. Группа британских ученых исследовала пациента, который владел богатым набором существительных, включая такие слова, как, «секстант», «кентавр» и «король Кнуд», но мог пользоваться только тремя глаголами: иметь, делать и быть. В каждом из перечисленных случаев поврежден лишь один из языковых модулей, а остальной мозг работает нормально.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
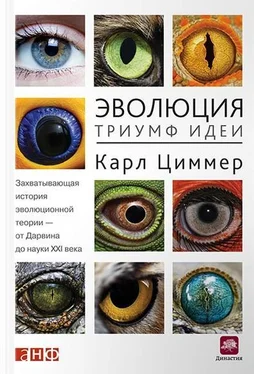
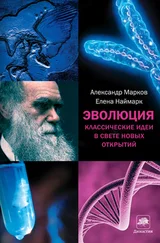

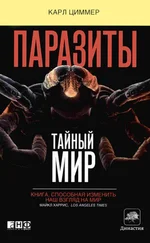

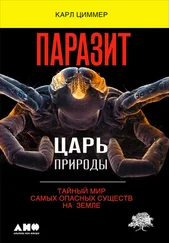
![Карл Циммер - Паразит – царь природы [Тайный мир самых опасных существ на Земле] [litres]](/books/396828/karl-cimmer-parazit-car-prirody-tajnyj-mir-sam-thumb.webp)
![Карл Циммер - Она смеется, как мать [Могущество и причуды наследственности] [litres]](/books/406077/karl-cimmer-ona-smeetsya-kak-mat-moguchestvo-i-pr-thumb.webp)