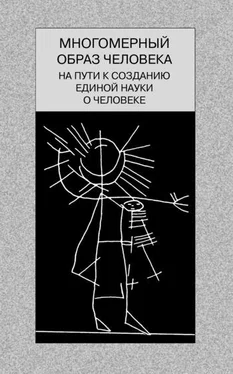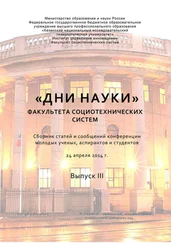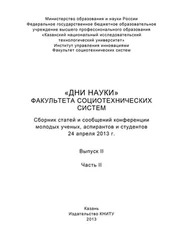Другой препарат – риталин – применяется для лечения синдрома, известного как «дефицит внимания – гиперактивность». Это «расстройство» распространено у маленьких мальчиков, которым бывает трудно тихо сидеть в школьном классе. С 1980 года этот синдром фигурирует в официальном перечне психических расстройств, составляемом Американской психиатрической ассоциацией. Между тем, несмотря на десятилетия исследований, причины его не установлены, и диагностируется он только по весьма субъективно определяемым симптомам, таким, как затрудненная концентрация и гиперактивность моторных функций. По некоторым оценкам, ту или иную форму этого расстройства можно обнаружить у 15 млн. жителей США – а это значит, что страна переживает эпидемию ошеломляющих размеров. Здесь, как нетрудно заметить, мы сталкиваемся с феноменом медикализации , когда болезненными начинают считаться состояния, которые вполне допустимо интерпретировать как флуктуации, находящиеся в пределах нормального распределения.
Между тем последствия такой медикализации на личностном уровне далеко не безобидны. Те, кто считает себя больным этим расстройством, часто впадают в отчаяние, полагая, что их неспособность концентрироваться обусловлена не слабостью характера или отсутствием воли, а нервным заболеванием. Тем самым они получают возможность снять с себя ответственность за собственные действия.
По сути дела, риталин выступает как медикаментозное средство социального контроля за поведением детей. Оно, видимо, может оказаться намного более эффективным, чем ранняя социализация или терапия фрейдистского толка [10] На мой взгляд, Фукуяма не прав в своем пренебрежительном отношении к методам формирующего воздействия на личность, осуществляемого на социальном и социально-психологическом уровне. Эти методы, замечу еще раз, отнюдь не исчерпали своего потенциала, и их конкуренция с методами биологического воздействия, несомненно, будет стимулировать их интенсивное развитие. Никоим образом не следует считать отошедшими в прошлое и проекты социального (в противовес биотехнологическому) конструирования человека.
. Между тем вопросы о возможных отдаленных последствиях такого широкого применения этих препаратов, о том, как оно будет сказываться на привычном для нас понимании личностной идентичности и морального поведения, пока что не привлекают сколько-нибудь заметного внимания.
Весьма интересно и описание социальных механизмов такой медикализации. В ее основе – совпадение самых разных интересов. Прежде всего это простое своекорыстие родителей и учителей, которые не хотят тратить время и силы на то, чтобы дисциплинировать, отвлекать, забавлять или воспитывать трудных детей старомодными способами.
Другая влиятельная группа поддержки – это фарминдустрия, в частности компании, производящие риталин и родственные ему препараты. Среди них особенно известна фирма «Новартис», которая в 1995 году была уличена в том, что пожертвовала 900 тыс. долларов организации, объединяющей родителей, у детей которых диагностирован синдром гиперактивности.
Прозак и риталин, утверждает Фукуяма, – это лишь первые представители нейрофармакологической волны биотехнологической революции, первое поколение психотропных препаратов. «Практически всего, что связывается в воображении людей с генетической инженерией, можно будет добиться в более короткие сроки с помощью нейрофармакологии» (р. 52). Так, бензодиазепины могут быть использованы для снижения тревожности, поддержания спокойного, но активного бодрствования, для улучшения сна; воздействуя на уровень ацетилхолина, можно будет улучшать способность к изучению новых фактов и сохранению в памяти получаемых знаний; регулируя уровень дофамина – повышать выносливость и мотивацию; манипулируя эндогенной опиатной системой, уменьшать чувствительность к боли и повышать порог удовольствия.
Распространение психотропных препаратов в США, продолжает Фукуяма, демонстрирует три мощные тенденции: желание людей как можно больше медикализировать свое поведение с тем, чтобы снизить ответственность за свои действия; давление экономических интересов; тенденцию все больше и больше расширять сферу терапевтических воздействий – ведь всегда можно найти доктора, который согласится, что любая неприятная или огорчительная ситуация есть патология, так что в скором времени общество узаконит оценку такого рода ситуации как состояния нетрудоспособности, которое должно быть так или иначе компенсировано.
Читать дальше