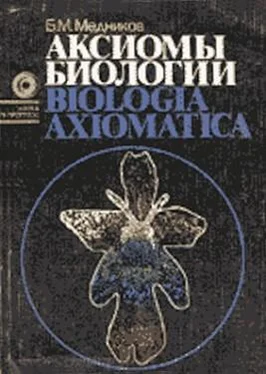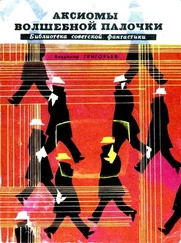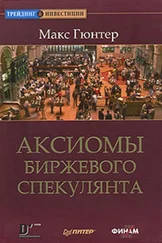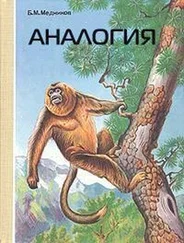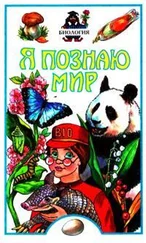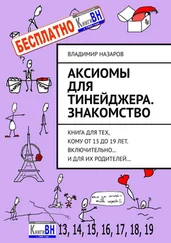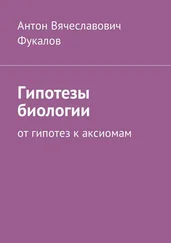Энгельс называл «физику механикой молекул, химию – физикой атомов и далее биологию – химией белков» и писал, что он желает этим выразить «переход одной из этих наук в другую, – следовательно, как существующую между ними связь, непрерывность, так и различие, дискретность обеих. Но отсюда следует, что, например, достижения физики могут быть использованы как аксиомы для химии. Так оно и есть: некоторые физхимики уже поговаривают о сведении химии к физике, ибо любую реакцию и любого вещества можно свести к уравнениям квантовой механики. Тем самым они возводят в абсолют связь и не обращают внимания на различие. Это уже загиб: химия, несомненно, самостоятельная наука, но она выводится из физики.
Точно так же, на мой взгляд, называя биологию химией белков (мы бы теперь добавили: и нуклеиновых кислот), Энгельс имел в виду то, что аксиомы биологии, только ей присущие, нужно доказывать на уровне химии и физики. Для многих это непреодолимое затруднение: если-де это аксиома, ее нельзя доказать, а если ее можно доказать, то это не аксиома. Такой подход явно недиалектичен.
Вообще вопрос о выводимости (нередко пишут: сводимости) одних форм движения материи к другим до сих пор служит предметом дискуссий философов.
Что такое «сводимость»? Вот как отвечает на этот вопрос советский философ Б. М. Кедров:
«Механисты употребляют его в смысле отрицания качественной специфики высшей формы движения, полного ее исчерпания свойствами и законами низшей формы… Совершенно отличный смысл в то же самое слово вкладывают ученые, когда они устанавливают структурные и генетические связи между высшим и низшим. Высшее не исчерпывается низшим, но сводится к нему в структурном и генетическом отношении… В этом же – структурном и генетическом – смысле жизнь сводится к химии и физике, поскольку биологическое движение возникает и образуется из химического и физического, хотя и не исчерпывается ими в качественном отношении».
Полагаю, что в настоящее время только подобная точка зрения, как и во времена Энгельса, соответствует тому багажу фактов, который имеет современное естествознание.
Аксиомы биологии не должны противоречить основному принципу современного естествознания – принципу причинности.
Увы, биология, начиная с учителя Александра Македонского великого философа Аристотеля, то и дело грешила против этого великого принципа и продолжает в лице отдельных своих представителей делать это и сейчас.
Самая суть принципа причинности в том, что причина по времени должна предшествовать следствию. (Обычно философы толкуют его шире, но для нас в первую очередь важна именно эта сторона.) События, разделяемые каким– либо промежутком времени, неравноправны: будущее не влияет на прошлое. Этот смысл выражен в древнегреческой пословице: «Над прошедшим даже боги не властны». И в русской поговорке: «Знал бы где упасть, соломки бы подостлал».
Но согласно теории относительности промежуток времени между двумя событиями – величина, зависящая от скорости движения наблюдателя. Если скорость наблюдателя меньше скорости света в вакууме, одно событие всегда происходит раньше другого. Для «сверхсветового» наблюдателя порядок событий может оказаться обратным, и если события связаны друг с другом причинной связью, то причина и следствие меняются местами. Так, причиной вылета пули из канала ствола явится попадание ее в мишень, а причиной изменения генетической программы организма будет благоденствие его потомков. Мы вступаем в область столь неразрешимых парадоксов, что единственный выход из этого – признать невозможность «сверхсветового наблюдателя». [1]
Попытки обнаружить нарушения принципа причинности в эксперименте позволили прийти к выводу, что он справедлив и для расстояний, в десять миллионов раз меньших, чем диаметр атома. Предел проверке пока ставит мощность современных ускорителей. Вся окружающая нас природа ему подчиняется, и живая не является исключением. Нарушить его можно только в неэйнштейновском мире, где скорость света в вакууме не является пределом.
Аристотель же создал учение о некоей конечной цели – причине явления (так называемая «конечная причина»). Две тысячи лет это учение почти никем не подвергалось сомнению, и лишь в эпоху Возрождения против него начали восставать. Уже Френсис Бэкон писал, что с научной точки зрения «конечная причина» не нужна и вредна; прибегать к ней для объяснения какого-либо явления допустимо в метафизике, но весьма опасно в науке, так как она сразу закрывает путь для эксперимента (недаром Ньютон порой восклицал: «О физика, спаси меня от метафизики!»).
Читать дальше