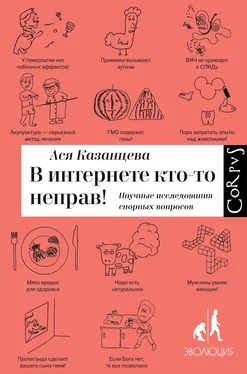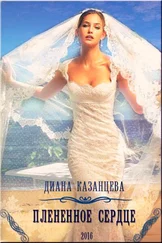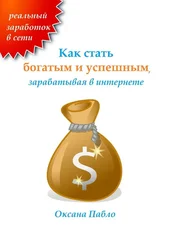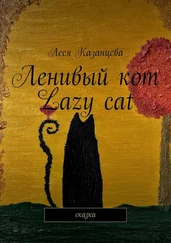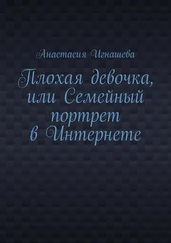Вот эта претензия кажется мне сомнительной. Люди же обычно не накапливают венерические болезни годами, они все-таки приходят к врачу, когда их начинает что-то явно беспокоить. Почему именно в 35 — примерно столько лет было людям из военного поколения на момент публикации исследования — они внезапно все пришли к врачу, а до этого не приходили? Мне представляется более вероятным, что выводы Дёрнера были корректны с учетом тех данных, которыми он располагал, потом прошло время, накопилось больше данных, и результаты пришлось пересмотреть. Это, в общем-то, нормальный процесс развития науки.
Это выяснил в свое время Дик Свааб, известный голландский нейробиолог, один из ведущих исследователей половых отличий в мозге, в том числе при нестандартных вариантах его развития. Кстати, его научно-популярная книжка «Мы — это наш мозг», в честь которой я назвала эту главку, пару лет назад была переведена на русский.
В оригинале foster children , в России отсутствует именно такая форма организации. Ребенка, например, изымают из его биологической семьи, поскольку родители-алкоголики не способны о нем заботиться, и передают опекунам. Но при этом и ребенок, и опекуны ориентируются на то, что биологические родители заберут ребенка сразу же, как только вылечатся, а в приемной семье он живет временно (хотя это часто затягивается на несколько лет, и в исследовании рассматривались как раз такие случаи).
Но есть проблема: когда ученые получают какой-то результат, они еще должны доказать, что он статистически значим, то есть что вероятность того, что он получился просто случайным образом, достаточно мала. Это легко сделать, если разрыв между группами большой или если есть много-много испытуемых. Конкретно для среднего распределения по группам результат, увы, недотянул до общепринятых критериев статистической значимости — с вероятностью в 24% группа с мордочками отдала больше денег просто случайно. Остальные упомянутые выводы статистически достоверны.
Читатели, которые любят психоэндокринологию, на этом месте наверняка вспомнили о том, что окситоцин, модный «гормон привязанности», — это на самом деле гормон парохиального альтруизма, то есть он стимулирует любовь только к «своим» и, по-видимому, может одновременно усиливать агрессию к чужакам. Об этом (как и почти обо всем) есть обстоятельная статья Александра Маркова на «Элементах»: http://elementy.ru/news/ (а еще напоминаю вам, что в его книжке «Эволюция человека» вопросы религии и морали рассматриваются гораздо лучше и подробнее, чем у меня здесь).
Честно говоря, в той статье, на которую я ссылаюсь, играют три разных щенка. Тигренок взялся из научно-популярного сюжета о лаборатории Born good? Babies help unlock the origins of morality . С использованием разных животных удобнее объяснять, а на смысл это не влияет: на самом деле эксперименты происходили в разных вариантах, с разными игрушками, причем в некоторых статьях авторы просто пишут «кукольное шоу», не вдаваясь в подробности.
Дело не в том, что я пишу относительно легким языком, и даже не в том, что я не провожу собственных исследований, а пересказываю чужие. Мои тексты не являются научными, потому что не проходят процесс научного рецензирования. Конечно, я показываю их специалистам, но, во-первых, я сама их выбираю, а во-вторых, именно за мной остается право решающего голоса — какие правки учитывать, какие нет. Рецензенты не могут влиять на то, будет ли книжка напечатана в существующем виде. А если бы это была научная книжка — могли бы. Именно здесь проходит водораздел.
Николя — не потому, что он француз, а потому, что у них в тусовочке миллион разных Коль и их приходится как-то различать. И вообще он ролевик, а у них бывают и гораздо более причудливые имена. Спасибо, что не Леголас!
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу