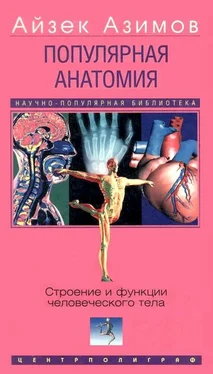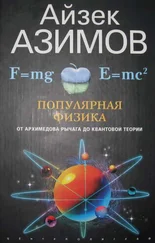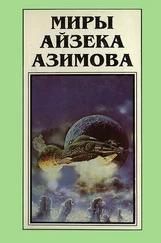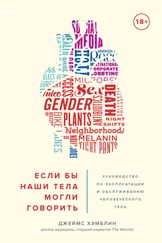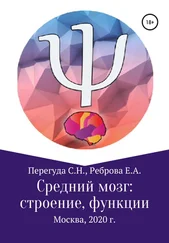Но, снова возвращаясь к организму, в том, что касается человека, он является долгожителем, как с точки зрения сердцебиения, так и в абсолютном времени. Этого нельзя объяснить самой клеткой, поскольку человеческая клетка заметно не отличается от тех, которые обнаруживаются в других организмах. Тогда нам остается только рассмотреть нашу межклеточную организацию. Мне кажется, что долгая жизнь основана на том факте, что межклеточная организация у нас гораздо более развита, чем можно ожидать от одного нашего размера. Следовательно, для распада ей потребуется больше усилий и напряжения, чем может потребоваться межклеточной организации любого другого живого создания. Наверняка по этой причине нам нужно больше времени, чтобы постареть, и мы живем дольше, прежде чем умереть.
А значит, нам требуется больше времени, чтобы созреть. Нам исполнится тринадцать лет, пока мы достаточно созреем для воспроизведения себе подобных, и восемнадцать, когда мы достигаем нашего полного размера и силы. Ни одному другому млекопитающему не требуется для этого столько времени. Определенно, продолжительный период нашего созревания подтверждает тот факт, что для полного развития высшей человеческой межклеточной организации требуется больше времени.
Нет необходимости считать межклеточную организацию чем-то слишком абстрактным, чтобы унизиться до материального. Та часть организма, которая ближе всего связана с этой организацией, – нервная система (часть организма, которой я не коснулся в этой книге). Ключевой орган нервной системы – мозг, и если и существует человеческий орган, который особенно необычен, так это мозг. Человеческий мозг по размеру не представляет собой ничего исключительного и чудовищного. Ни одно существующее на земле создание размером с человека не приближается к нему по величине своего мозга. Слон имеет несколько больший мозг, но этот мозг должен осуществлять контроль над гораздо большим телом, чем у человека.
Выходит, мы пришли к заключению, что существуют два аспекта человеческого организма, которые далеко, очень далеко выходят за рамки общей модели млекопитающих. Один – это гигантский мозг человека, а другой – большая продолжительность его жизни. Будет довольно странно, если окажется, что между ними нет никакой связи.
Эта книга посвящена частям человеческого тела, отдельным органам, составляющим его. Может показаться, что то, чего я не коснулся, а именно нервная система и другие органы, контролирующие межклеточную организацию, представляет собой лучшую половину и, действительно, составляет то, что наиболее присуще и характерно человеку. Следовательно, именно этой межклеточной организацией я займусь в книге, посвященной человеческому мозгу.
Я остановлюсь здесь, чтобы указать, что при нахождении различий и составлении классификаций человечество обычно по собственному выбору строит искусственные барьеры для Вселенной, которая, во многих отношениях, есть «единое целое». Оправданием может служить лишь то, что такой подход способствует нашим попыткам понять мироздание. Это разбивает набор предметов и явлений, слишком сложных, чтобы быть понятыми в своей цельности, на более мелкие сферы, которые можно будет рассматривать одну задругой. Однако в таких классификациях нет ничего объективно «истинного», и единственным надлежащим критерием является их полезность.
Я намерен, где это кажется целесообразным, давать происхождение специальных терминов. Мне кажется, это должно помочь облечь непонятный термин в знакомые слова и, возможно, устранить ужас перед ним. Так, греческое слово «phylum» вполне может для нас ничего не значить, но мы все знаем, что такое племя, и когда говорим «phylum» или «тип», то больше не проявляем беспокойства по этому поводу. Поскольку большинство научных терминов произошли либо из латыни, либо из греческого, я буду в скобках давать буквальное значение, указывая, из какого языка оно произошло, например phylum (что по-гречески означает «племя»). Когда речь пойдет о других языках или если происхождение слова представляет особенный интерес, я конечно же буду вдаваться в подробности.
Каждое название не вполне соответствует значению слова, от которого оно произошло, если понимать его буквально. Название «руконогие» было предложено потому, что естествоиспытатель, который первым изучал эти существа, предположил, что определенные структуры служат им и руками и ногами. Это оказалось не совсем так. Животные типа моллюсков не слишком-то мягкие. В действительности большинство из них покрыты твердой оболочкой (раковиной или панцирем). Конечно, внутри они мягкие, но не мягче, чем другие животные. Тем не менее, пока зоологи приходят к соглашению насчет какого-либо названия, оно выполняет полезную функцию, даже когда его буквальное значение не вполне соответствует истине. А происхождение этого термина всегда представляет к тому же и исторический интерес.
Читать дальше