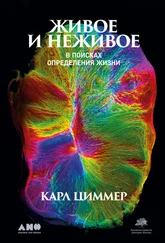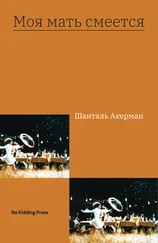Этот естественный эксперимент особенно ценен, если учесть, насколько больше детей получает школьное образование сейчас по сравнению с прошлыми столетиями. В США начала XX в. школы посещало 50 % детей [715] Baker et al. 2015.
. К 1960 г. это значение достигло 90 %. Средняя длительность обучения юных американцев выросла с 6,5 до 12 лет.
Сам Флинн отнюдь не придерживался мнения, что люди XIX в. были интеллектуально недоразвиты или что нейроны современных людей проводят сигналы каким-то принципиально новым способом. Наши предки мыслили сообразно своей эпохе. В начале XX в. в тестах на интеллект были такие вопросы, как «что общего у собак и кроликов?» Проводившие тестирование хотели получить ответ, что и те и другие – млекопитающие. Но часто участники отвечали так – «собаки используются для охоты на кроликов». Именно это было важно для тех, кто использовал свое время для охоты, а не для изучения систематики.
Школы XX в. начали учить детей мыслить, в большей степени оперируя классификациями, логикой и гипотезами. Чтобы найти работу, человек должен был уметь управлять механизмами, а затем и компьютером. Современные дети чаще проводят время за смартфоном, нежели охотятся с собаками на кроликов. Аргументы Флинна подкрепляются еще и распространением обнаруженного им эффекта по всему миру. Он был определен сначала для США и Европы, но в ходе изменений, происходящих в развивающихся странах, там тоже появилась тенденция к улучшению результатов тестов на интеллект.
Как и в случае с ростом, проблема интеллекта заставляет нас укладывать в голове две противоречащие друг другу мысли. За прошедшее столетие мир стал выше и умнее, но такое возрастание не было вызвано изменениями в наших генах. Эти эффекты слишком яркие, чтобы мы могли поверить, что гены вообще хоть как-то влияют на интеллект. И все же наследственность не перестала играть свою роль. Когда ученые впервые начали измерять рост в XX в., он был сильно наследуемой чертой. Интеллект – тоже. И сегодня обе эти характеристики остаются наследуемыми. В схожих условиях люди вырастают до разной высоты и получают разные баллы в тестах на интеллект отчасти из-за генов, которые унаследовали.
Кроме того, становится ясно, что мы не можем рассматривать гены и окружающую среду как две отдельные силы, которые действуют независимо друг от друга. Одна влияет на другую. В 2003 г. Эрик Туркхеймер из Виргинского университета с коллегами совершил переворот в стандартных близнецовых исследованиях [716] Turkheimer et al. 2003.
. Чтобы вычислить наследуемость интеллекта, ученые решили проанализировать не только типичные семьи среднего класса, с которым работали в предыдущих исследованиях. Они искали близнецов и из более бедных семей. Туркхеймер и его коллеги обнаружили, что от социально-экономического положения и впрямь зависит, насколько наследуемым окажется интеллект. Среди детей, выросших в благополучных семьях, наследуемость составляла около 60 %. Но показатели близнецов из менее обеспеченных семей совпадали не сильнее, чем между обычными братьями и сестрами. То есть у них наследуемость была близка к нулю.
Может показаться странным, что среда сама по себе может изменить степень наследуемости. Мы склонны считать гены неотвратимыми вестниками судьбы, непреклонными слугами наследственности. Но биологи всегда знали, что гены и среда тесно повязаны. Если вы выращиваете кукурузу в равномерно плодородной почве, одинаково обильно освещая и поливая побеги, различия в высоте растений в значительной степени окажутся обусловлены генетически. Но если вы посадите растения в плохую почву, где им будет не хватать некоторых жизненно важных питательных веществ, за их различия в не менее значительной степени будет отвечать окружающая среда.
Исследование Туркхеймера показывает, что нечто подобное может происходить и с интеллектом. Если изучающие интеллект специалисты ограничиваются богатыми семьями или проводят исследования в таких странах, как Норвегия, где действует единая система здравоохранения, то они, возможно, придадут слишком большое значение наследственности. Но ведь и бедность может оказать достаточно сильное воздействие, чтобы заглушить влияние наших генов.
За годы, прошедшие с исследования Туркхеймера, некоторые ученые воспроизвели его результаты. Другие – нет [717] Tucker-Drob and Bates 2016.
. Вполне возможно, что эффект слабее, чем считалось. Однако исследование 2016 г. предложило иное возможное объяснение. Оказалось, что бедность снижает наследуемость интеллекта в США, но не в Европе. Возможно, Европа просто не истощает почву под ногами своих детей настолько, чтобы проявился этот эффект.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Карл Циммер Она смеется, как мать [Могущество и причуды наследственности] [litres] обложка книги](/books/406077/karl-cimmer-ona-smeetsya-kak-mat-moguchestvo-i-pr-cover.webp)


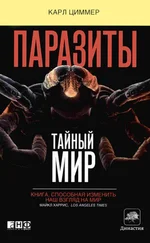

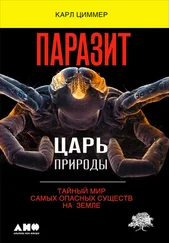
![Карл Циммер - Паразит – царь природы [Тайный мир самых опасных существ на Земле] [litres]](/books/396828/karl-cimmer-parazit-car-prirody-tajnyj-mir-sam-thumb.webp)
![Шалини Боланд - Тайная мать [litres]](/books/414707/shalini-boland-tajnaya-mat-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)
![Евгений Гаглоев - Верховная Мать Змей [litres]](/books/429235/evgenij-gagloev-verhovnaya-mat-zmej-litres-thumb.webp)