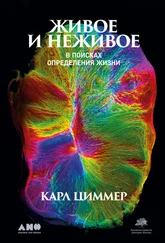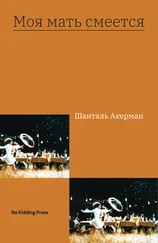Дюбуа, как и антропологи до него, изучал внешние особенности строения человека. Однако в начале XX в. ученые приступили к наблюдениям и за нашей внутренней изменчивостью. Польский серолог Людвик Гиршфельд, как уже говорилось выше, доказал, что группы крови наследуются согласно закону Менделя [473] См.: Geserick and Wirth 2012; Lederer 2013; Mikanowski 2012; Okroi and McCarthy 2010; Starr 1998.
. Из-за Первой мировой войны он вынужден был прервать свои исследования, но в итоге именно «благодаря» войне получил беспрецедентную возможность увидеть, как варьируются группы крови в разных человеческих популяциях.
В 1917 г. Людвик и его жена Ханка в качестве врачей отправились в греческий город Салоники. Они лечили тысячи находивших здесь убежище солдат армий-союзников. Один свидетель позднее вспоминал, что Салоники, окруженные немецким кордоном, были в то время «самым людным и многонациональным местом во Вселенной» [474] Цит. по: Owen 1919.
.
Гиршфельды увидели возможность впервые получить общее представление о группах крови. До тех пор они изучали их только у немцев, не имея представления о том, как группы крови распространены у населения других стран мира. В Салониках разместились по соседству солдаты из таких столь удаленных друг от друга стран, как Сенегал, Мадагаскар и Россия. Гиршфельды обратились к солдатам и беженцам с просьбой сдавать кровь. В итоге супруги получили образцы 8400 человек из 16 этнических групп [475] Hirschfeld and Hirschfeld 1919.
. Если бы Гиршфельды попытались собрать столько крови в мирное время, им понадобилось бы десять лет путешествовать.
Обнаруженные супругами закономерности не соответствовали какому-то простому разделению рас. Четыре известных группы крови – A, B, AB и 0 – нашлись в каждой стране, представителей которой они исследовали. Единственной отличительной чертой стало соотношение групп. Среди англичан у 43,4 % была группа A, а у 7,2 % – группа B. Среди индусов группа B оказалась более распространена – 41,2 %, и только у 19 % была группа A.
Гиршфельды рассчитали для каждой страны «биохимический расовый индекс», соотнеся частоты встречаемости в ней групп A и B. Значение этого индекса было самым высоким для стран Северной Европы и снижалось при движении на юг и восток. Супруги разделили все «национальные типы» на три региона: европейский, промежуточный и азиатско-африканский типы. Гиршфельды хорошо понимали, что выделяемые ими типы вызовут удивление у традиционно мыслящих ученых. Как, например, можно объединить азиатов и африканцев в единую группу? Гиршфельды предупреждали: «Наш биохимический индекс никак не соответствует расам в обычном смысле этого слова» [476] Hirszfeld and Hirszfeldowa 1918.
.
Чтобы объяснить многообразие, которое Дюбуа заметил у негров Атланты, а Гиршфельды – в соотношениях групп крови воюющих народов, требовался более глубокий подход к наследственности, а именно такой, согласно которому аллели генов могут свободно распространяться по популяции и даже перетекать от одной к другой. Но в начале XX в. – за исключением того случая, когда в осажденном городе собрались тысячи людей – невозможно было составить карту генетической географии нашего вида. Вместо него первые важнейшие уроки о расах нам преподал другой вид – маленькая бурая мушка, обитающая на западе Северной Америки.
__________
Эту муху Drosophila pseudoobscura изучал эмигрант из Советского Союза Феодосий Добжанский [477] См.: Adams 2014; Dobzhansky 1941; Ford 1977; Gannett 2013; Mather and Dobzhansky 1939; Sturtevant and Dobzhansky 1936.
. Мальчиком Добжанский увлекался ловлей бабочек, а к 18 годам стал специалистом по жукам и опубликовал несколько работ на эту тему. Благодаря этой ловле насекомых в детстве он глубоко осознал, сколь велико разнообразие природы. Рассматривая узоры отловленных особей и обращая внимание на их окраску, он понимал, что у одного вида встречается огромное число вариантов. Ему удалось выявить различия как между отдельными особями, так и между популяциями. Иногда биологи называют такие четко различающиеся популяции подвидами. А иногда – расами.
Добжанский узнал о работе Томаса Моргана с мухами, будучи еще совсем молодым исследователем. Для него она стала откровением. Морган связывал внешние признаки насекомых – форму крыльев и жужжалец, расположение пятен, т. е. те же, что наблюдал и Добжанский, – с внутренней работой их генов. В 1927 г. молодой ученый получил стипендию, позволившую ему провести год в лаборатории Моргана в Нью-Йорке. Власти Советского Союза разрешили Добжанскому уехать, предполагая, что по окончании срока стипендии он вернется домой. Однако Добжанский задумал побег от тирании Советов и встал под знамена либеральной демократии, к которой пришел в США. Его нога никогда больше не ступала на территорию Советского Союза.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Карл Циммер Она смеется, как мать [Могущество и причуды наследственности] [litres] обложка книги](/books/406077/karl-cimmer-ona-smeetsya-kak-mat-moguchestvo-i-pr-cover.webp)


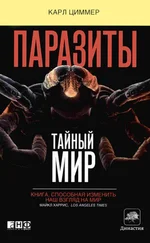

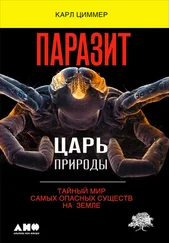
![Карл Циммер - Паразит – царь природы [Тайный мир самых опасных существ на Земле] [litres]](/books/396828/karl-cimmer-parazit-car-prirody-tajnyj-mir-sam-thumb.webp)
![Шалини Боланд - Тайная мать [litres]](/books/414707/shalini-boland-tajnaya-mat-litres-thumb.webp)
![Александр Донских - Отец и мать [litres]](/books/415697/aleksandr-donskih-otec-i-mat-litres-thumb.webp)
![Евгений Гаглоев - Верховная Мать Змей [litres]](/books/429235/evgenij-gagloev-verhovnaya-mat-zmej-litres-thumb.webp)