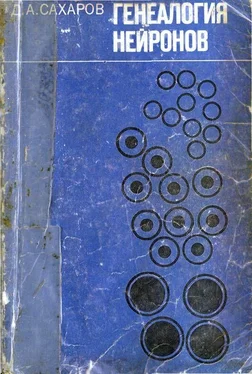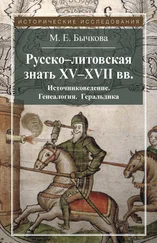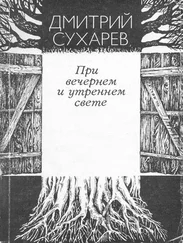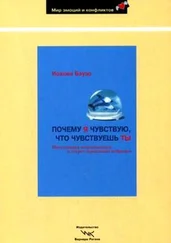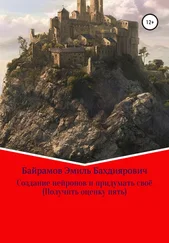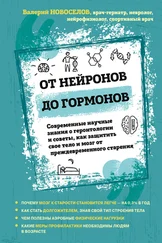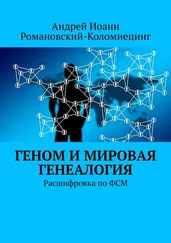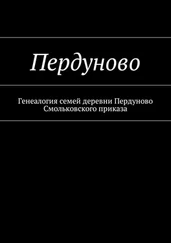Здесь нелишне сослаться также на обоснованную экспериментальными данными мысль Н. Н. Демина, что эффекты медиаторных веществ на поверхностную клеточную мембрану есть, может быть, лишь частный случай их мембранных эффектов [17].
Сокращение списка веществ, потенциально годящихся на роль медиатора, может стать источником такой ситуации, когда у независимо появившихся нервных клеток медиатор будет одним и тем же. Насколько реальны такие ситуации, сейчас невозможно сказать, но нужно всё же иметь эту возможность в виду.
С такой же неизбежностью встаёт на очередь вопрос о природе рецепторной специфичности.
На наших скелетных мышцах эффект ацетилхолина блокируется кураре, на сердце — атропином. Но что за этими различиями стоит? Оттого ли различны постсинаптические холинорецепторы, что различны синаптические функции ацетилхолина (пусковое возбуждающее действие в одном случае, модуляция автоматизма — в другом)? Или дело в разном происхождении мышц (эктодермальное в одном случае, целомическое — в другом)? Или здесь важна какая-то третья причина?
Не возьмусь отвечать и на этот вопрос, мало ещё фактов, но на некоторые биологические реальности хочу обратить внимание.
Интересный вывод можно извлечь из сравнительно-физиологических данных об изменениях ионной проницаемости клеточной мембраны при взаимодействии медиатора с рецептором. Эти данные весьма однозначно показывают, что у высших организмов ионные эффекты медиаторов не более специфичны, чем у примитивных. Пока дело касается ионных каналов, эффект медиаторного вещества в равной степени избирателен — взята ли исследуемая мишень от организма с высокоразвитым мозгом или от очень простого многоклеточного. Фактическая сторона детально рассматривается Г. Гершенфельдом [166].
Фактом является и древность некоторых, во всяком случае, специфических воспринимающих субстанций. Известна группа алкалоидов, специфически блокирующих реакцию между медиатором и рецептором в синапсах млекопитающих (см. 2). Те же алкалоиды блокируют чувствительность к соответствующим медиаторным веществам на клетках беспозвоночных: действие гамма-аминомасляной кислоты снимается пикротоксином, глицина — стрихнином, ацетилхолина — атропином в одних случаях, тубокурарином — в каких-то других; при этом, кажется, вовсе не обязательно, чтобы у клеток, располагающих такими рецепторами, они участвовали в синаптических функциях.
Приходит на ум пример с другим алкалоидом — колхицином, который оказывает на нейроны весьма специфическое действие, блокируя транспорт веществ по аксону. Никто не питает иллюзий относительно нейротропности колхицина: колхицин взаимодействует с тубулином, а обеспечение тубулином аксонного транспорта есть не более как частный случай внутриклеточных функций, выполняемых построенными из этого белка микротрубочками.
Не вправе ли мы думать, что точно так же и макромолекулы, реагирующие с тубокурарином, стрихнином, бикукуллином и т. д., не появились в процессе эволюционного совершенствования синаптической передачи, а существовали до возникновения нервной системы, выполняя какие-то неизвестные нам клеточные функции?
Несомненный и важный факт заключается, наконец, в том, что клетка может располагать и, как правило, располагает несколькими специфическими рецепторами к разным медиаторным веществам, а нередко и несколькими рецепторами к одному медиатору, которые порой размещаются в разных участках поверхностной мембраны. Единичный характер медиаторного химизма проявляется у нервных клеток только в секреторном плане, рецепции это не касается.
Спекуляции о происхождении постсинаптических рецепторов и их молекулярной эволюции должны исходить из этой реальности.
В связи со сказанным хотелось бы напомнить мысль А. Г. Гинецинского, что у скелетной мышцы позвоночных в процессе эволюции имело место «уточнение хеморецепции» путём сужения фармакологического спектра веществ, способных вызывать в мышце акт возбуждения. «Примитивная соматическая мышца, — писал Генецинский, — не обладает строго избирательной реактивностью к специализированным химическим раздражителям. Она поливалентна и отвечает стереотипным сокращением на многие биологически активные вещества» [14, стр. 5 — 6]. В принципе здесь мыслимы два возможных механизма «уточнения хеморецепции», и без специального исследования нельзя сказать, какова же примитивная ситуация: поливалентна ли единичная рецепторная субстанция, которая затем специализируется, претерпевая молекулярную эволюцию, или имеется исходная множественность рецепторных субстанций, часть которых затем утрачивается. Это вопрос, которым активно занимаются сравнительные фармакологи, и мы вскоре должны получить на него чёткий ответ.
Читать дальше