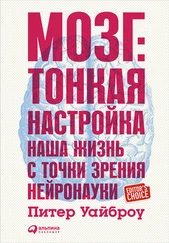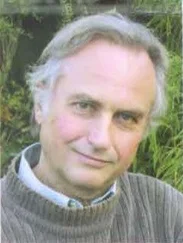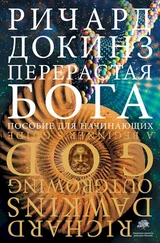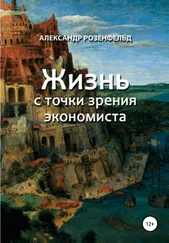Даже если телефон цифровой, звуки, входящие в микрофон и выходящие через наушник, все равно представляют собой аналоговые колебания давления воздуха. Цифровой является только та информация, что перемещается от одной трубки к другой. Для того чтобы по-микросекундно переводить аналоговые показатели в последовательность дискретных импульсов — «оцифровывать» их, — должен быть разработан некий код. Когда вы умоляете по телефону своего возлюбленного или возлюбленную, каждый нюанс, каждое прерывание вашего голоса, каждый страстный вздох и тоскливый стон передается по проводу исключительно в форме чисел. Числа, если кодировать и декодировать их достаточно оперативно, могут растрогать вас до слез. Современные электронные переключатели работают так быстро, что время, используемое телефонной линией, может быть поделено на малюсенькие промежутки, подобно тому как гроссмейстер в ходе сеанса одновременной игры распределяет свое время между двадцатью досками. Таким образом, телефонная линия способна вместить тысячи разговоров — с виду одновременно, но на электронном уровне эти разговоры обособлены и друг другу не мешают. Магистральный канал передачи телефонных данных — в настоящее время многие такие каналы являются вовсе не проводами, а радиосигналами, передаваемыми либо напрямую от одной возвышенности к другой, либо рикошетом от спутников, — представляет собой громадную реку из цифр. Но на самом деле, благодаря искусному электронному разделению, это не одна, а тысячи рек, которые текут в одних и тех же берегах только в некоем поверхностном смысле — как рыжие и серые белки, что скачут по одним и тем же деревьям, но никогда не смешивают свои гены.
Если снова обратиться к миру техники, то недостатки аналоговых сигналов не играют большой роли, покуда сигнал не копируется многократно. Шипение магнитной ленты может быть слабым, едва заметным, если только вы не усилите звук — тогда оно возрастет и к нему прибавятся кое-какие дополнительные шумы. Но если сделать запись с этой пленки на другую, с другой на третью и так далее, опять и опять, то по прошествии сотни «поколений» не останется ничего, кроме ужасающего скрежета. Похожая проблема возникала и с телефонами — в те времена, когда они были аналоговыми. Любой телефонный сигнал, передаваемый по длинному проводу, постепенно глохнет, и его необходимо усиливать через каждые сто миль или около того. В аналоговую эпоху это было кошмаром для инженеров, поскольку доля фоновых шумов увеличивалась на каждом очередном этапе усиления сигнала. Цифровые сигналы тоже нуждаются в усилении. Но в этом случае, по уже известным нам причинам, оно не приводит ни к каким ошибкам: систему можно отладить таким образом, чтобы информация проходила по ней без искажений, независимо от количества промежуточных пунктов усиления сигнала. Даже на протяжении многих сотен миль шипение возрастать не будет.
Когда я был маленьким, мама говорила мне, что наши нервные клетки — это телефонные кабели организма. Но какого рода кабели, аналоговые или цифровые? Оказывается, любопытная смесь того и другого. Нервная клетка не похожа на электрический кабель. Она представляет собой длинную тонкую трубочку, вдоль которой, подобно искрам по пороховой дорожке, пробегают волны химических изменений, — с той разницей, что нерв, в отличие от пороховой дорожки, быстро возвращается в исходное состояние и после короткого периода покоя готов искриться вновь. Амплитуда волны — «температура пороха» — может в ходе перемещения по нерву меняться, но это не имеет значения. Для кода это все равно. Электрический импульс либо есть, либо его нет — как в случае двух дискретных уровней напряжения у цифрового телефона. В этом отношении нервная система является цифровой. Однако никто не укладывает нервные импульсы в прокрустово ложе байтов, не преобразует их в обособленные числа. Вместо этого интенсивность сигнала (громкость звука, яркость освещения, а может быть, даже накал страстей) кодируется в виде частоты импульсов. Этот способ известен инженерам как частотно-импульсная модуляция, и они охотно им пользовались, прежде чем принять на вооружение импульсно-кодовую модуляцию.
Частота импульсов — величина аналоговая, но сами импульсы цифровые: они или есть, или их нет, без каких-либо промежуточных вариантов. И нервная система, подобно любой цифровой системе, извлекает из этого выгоду. Она устроена так, что в ней тоже есть свои эквиваленты усилителей сигнала, только расположены они не через каждые сто миль, а через каждый миллиметр — восемьсот усиливающих промежуточных станций на пути от вашего спинного мозга до кончика пальца. Если бы абсолютная интенсивность нервного импульса — «горения пороха» — имела значение, то при своем перемещении по человеческой руке (не говоря уже о шее жирафа) сигнал исказился бы до неузнаваемости. На каждом этапе его усиления добавлялись бы новые случайные ошибки, как это происходит, когда мы переписываем что-либо с одной пленки на другую восемьсот раз подряд. Или когда мы делаем ксерокопию ксерокопии ксерокопии. Все, что останется после восьмисот «поколений» фотокопирования, — это серое размытое пятно. Для нервных клеток единственным решением данной проблемы было цифровое кодирование, и естественный отбор не преминул им воспользоваться. То же самое справедливо и для генов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Ричард Докинз Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста] обложка книги](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-cover.webp)