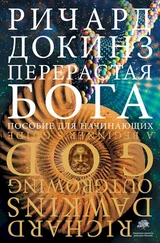Я говорю “неважно, во что” верить, подсказывая, что люди готовы верить в совершенно нелепые случайные вещи, как электрический монах в восхитительной книге Дугласа Адамса “Холистическое детективное агентство Дирка Джентли”. Джентли был создан специально для того, чтобы верить за вас, и делал это очень успешно. В тот день, когда мы с ним встречаемся, он непоколебимо верит, вопреки всякой очевидности, что все в мире окрашено в розовый цвет. Я не хочу утверждать, что все, во что верит тот или иной индивидуум, непременно нелепо. Оно может быть нелепым, а может и не быть. Суть в том, что установить это невозможно, равно как невозможно отдать предпочтение одному объекту веры перед другим, поскольку все откровенно избегают предъявления каких бы то ни было доказательств. В сущности, тот факт, что истинная вера не нуждается в доказательствах, считается главной добродетелью верующих. Именно поэтому я упомянул о Фоме – единственном из апостолов, заслуживающем одобрения.
Вера не может двигать горы (хотя многим поколениям детей торжественно внушают обратное, и они верят в это). Но вера способна подвигнуть человека на такие опасные безрассудства, что она представляется мне своего рода психическим заболеванием. Она может достигать такой силы, что в экстремальных случаях люди готовы убивать и умирать за веру, не ощущая потребности в каких-либо оправданиях. Говард К. Хенсон придумал название “мемеоиды” для “людей, которых какой-то мем увлек до такой степени, что их собственная жизнь стала казаться им ничего не значащей… Множество таких людей можно увидеть в вечерних новостях из таких мест, как Белфаст или Бейрут”. Вера может быть достаточно сильной, чтобы сделать людей невосприимчивыми ко всем призывам к жалости, прощению, к благородным человеческим чувствам. Она заставляет их даже утратить чувство страха, если они искренне верят, что мученическая смерть вознесет их прямо на небеса. Что за оружие! Религиозная вера заслуживает отдельной главы в анналах военной техники, на равных правах с луком, боевым конем, танком и водородной бомбой.
Оптимистический тон моего заключения вызвал скепсис среди критиков, которым кажется, что он не соответствует содержанию остальной части книги. В некоторых случаях критика исходит от социобиологов – доктринеров, ревниво отстаивающих важность генетического влияния. В других случаях критика парадоксальным образом исходит от противоположной стороны – от верховных жрецов левого толка, защищающих любимую демонологическую икону. У Роуза, Кеймина и Левонтина в книге “Не в наших генах” имеется собственное пугало, называемое “редукционизмом”, а принято считать, что все лучшие редукционисты являются одновременно “детерминистами”, предпочтительно “генетическими”.
Мозги для редукционистов – это определенные биологические объекты, от свойств которых зависят наблюдаемое нами поведение и состояния мышления или намерения, выводимые нами из этого поведения… Такая позиция находится или должна находиться в полном соответствии с законами социобиологии, выдвигаемыми Уилсоном и Докинзом. Если, однако, они ее примут, это поставит их перед дилеммой: прежде всего им придется признать врожденность почти всего поведения человека, а это им, свободным людям, явно покажется непривлекательным (презрение, чувство собственного величия и тому подобное), а затем они окажутся вовлеченными в либерально-этические заботы об ответственности за противоправные действия, коль скоро эти действия, подобно всем другим действиям, биологически детерминированы. Чтобы избежать этой проблемы, Уилсон и Докинз призывают на помощь свободу воли, которая дает нам возможность идти против диктата наших генов, если мы этого захотим… Это, в сущности, возврат к беззастенчивому картезианству, дуалистическому deus ex machina .
Я думаю, что Роуз и его коллеги обвиняют нас в стремлении добиться того, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Либо мы должны быть “генетическими детерминистами”, либо мы верим в “свободу воли”, совместить же то и другое невозможно. Однако – и здесь я выступаю от имени профессора Уилсона, так же как и от своего собственного, – мы являемся “генетическими детерминистами” только в глазах Роуза и его коллег. Чего они не понимают (очевидно, хотя в это и трудно поверить), так это того, что можно верить в статистическое влияние генов на поведение человека и одновременно допускать возможность изменения этого влияния, его подавления или реверсии под действием других воздействий. Гены должны оказывать статистическое влияние на все типы поведения, возникающие под действием естественного отбора. Роуз и его коллеги, надо полагать, согласятся с тем, что половое влечение у человека возникло под действием естественного отбора в том же смысле, как все на свете всегда эволюционирует под действием естественного отбора. Поэтому они должны согласиться с тем, что имеются гены, оказывающие влияние на половое влечение – в том смысле, что гены всегда воздействуют на все. Тем не менее они сдерживают свое половое влечение, когда этого требует общество. Что в этом двойственного? Ничего. И не более двойствен мой призыв к восстанию “против тирании эгоистичных репликаторов”. Мы, то есть наш мозг, достаточно обособлены и независимы от наших генов, чтобы восстать против них. Как уже говорилось, мы это делаем, так сказать, “по мелочи”, всякий раз, когда прибегаем к противозачаточным средствам. Нет никаких причин к тому, чтобы мы не могли взбунтоваться и в более широких масштабах.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
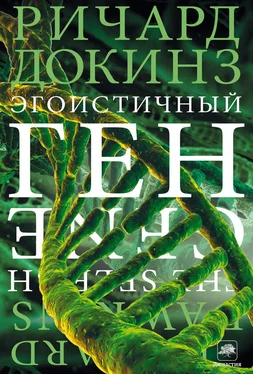


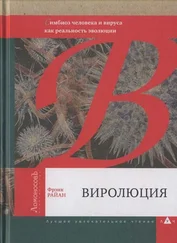



![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)