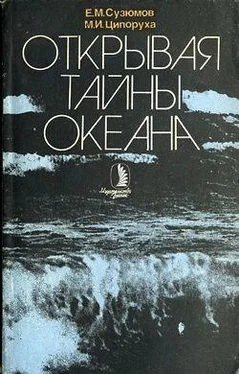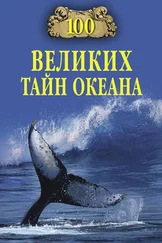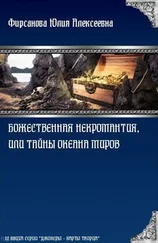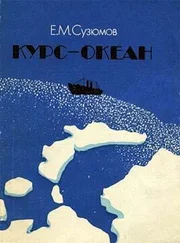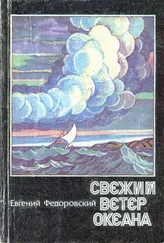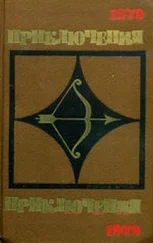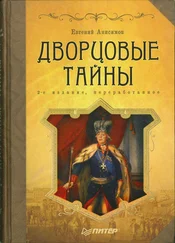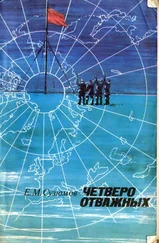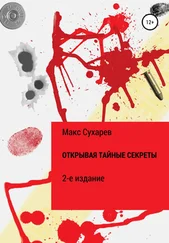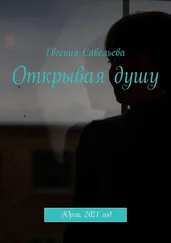– Но кто разработает проект? – спросил министр.
– Корабелы «Ленинской кузницы» согласны. – И Папанин показал министру предварительные проработки, которые Малый привез из Киева.
– И здесь обошли меня, – не смог сдержать улыбки Бутома. – Ладно, уговорили, – сказал он и добавил: – Вернее, не вы уговорили, а Байкал уважать надо, недаром в народе его называют «славное море, священный Байкал».
Воодушевленный решением министра Малый вновь отправился в Киев. Вскоре в конструкторском бюро, а затем и в цехах верфи «Ленинская кузница» закипела работа.
Проект судна был разработан так, что все секции корпуса нового судна можно было бы перевезти по железной дороге из Киева к берегам Байкала.
Пока в Киеве изготавливали секции, П. Г. Малый полетел в Иркутск. Речники Восточно-Сибирского пароходства подсказали, что собрать секции корпуса можно на верфи им. Е. Ярославского в поселке Мальта.
Побывал Малый и на этой верфи. Вид небольших цехов и малолюдство на территории не вдохновляли. Видно было, что до сих пор верфь проводила лишь ремонт судов, необходимого судостроительного опыта ни у инженеров, ни у рабочих не было.
Он обсудил ситуацию с руководством верфи, беседовал с рабочими. Ясно было, что верфи нужна солидная и основательная помощь. Пришлось организовать подготовку сибиряков-судосборщиков и сварщиков на «Ленинской кузнице». АН СССР добилась того, чтобы верфи помогли сварочным и другим оборудованием и материалами.
Все организационные и технические вопросы решались в тесном взаимодействии с учеными Лимнологического института Сибирского отделения АН СССР, для которых и строили судно. Активную помощь во всем оказывал директор института член-корреспондент АН СССР Г. И. Галазий.
Наконец секции корпуса, погруженные на 22 железнодорожные платформы, прибыли на станцию Байкал. А как перебросить секции через Ангару, ведь железнодорожного моста не было? Было решено изготовить солидные деревянные сани и перевезти секции по льду через реку на буксире у тракторов на гусеничном ходу.
Стояли крепкие сибирские морозы, сильный ветер сдувал снег со льда. Самоотверженно работали такелажники и трактористы. Одна за другой прибывали корпусные секции на место сборки. Наконец все вздохнули облегченно. Все секции нового судна разместили на самодельном стапеле.
Прошли дни напряженной работы по сборке корпуса и установке оборудования. Настал долгожданный день спуска нового судна на воду. Прозвучали команды на спуск, и вот судно сначала медленно, а затем все быстрее двинулось по спусковому устройству. Еще секунды – и вот оно уже на плаву.
Новое НИС для исследования Байкала водоизмещением 530 т с шестью научными лабораториями пополнило флот АН СССР в 1964 г. Его назвали именем профессора Глеба Юрьевича Верещагина (1889–1944). Видный советский гидробиолог и озеровед доктор географических наук Г. Ю. Верещагин с 1925 г. руководил Байкальской экспедицией АН СССР. Его научные работы были связаны с изучением планктона и пресноводных ракообразных Байкала. Он изучал ледовый режим озера, динамику и морфологию его берегов. Научные работы Г. Ю. Верещагина заложили основу новой науки – байкаловедения.
В 1977 г. с целью детального всестороннего изучения Байкала была проведена Байкальская комплексная геолого-геофизическая экспедиция, организованная Институтом океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР совместно с Лимнологическим институтом, Институтом геохимии СО АН СССР, а также Иркутским государственным университетом.
Значительные исследовательские работы были проведены с борта НИС «Г. Ю. Верещагин». На судне установили дополнительно самописец глубины, аппаратуру непрерывного сейсмического профилирования, позволяющую «просвечивать» толщу осадков на глубину в несколько километров, новейшую магнитометрическую аппаратуру, предназначенную для регистрации составляющих магнитного поля Земли, специальную глубоководную фотокамеру, гермоградиентометр, необходимый для уточнения данных о тепловом режиме Байкальской впадины.
Ученые установили с борта НИС «Г. Ю. Верещагин» на дне озера регистраторы землетрясений и сейсмических волн. В ходе работ судно буксировало воздушные пушки, возбуждающие акустические волны, которые проникали внутрь земных недр и, отражаясь и преломляясь, принимались судовыми регистраторами и записывались на магнитофон. Изучение магнитофонных записей позволило ученым составить представление о геологической структуре пород подо дном озера до глубины в несколько километров. Проведя с борта НИС «Г. Ю. Верещагин» комплексную геофизическую съемку Байкальской впадины, ученые смогли удачно выбрать полигоны для погружения и детального исследования дна с борта ПА «Пайсис».
Читать дальше