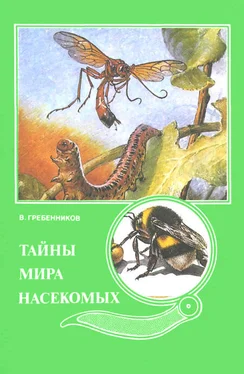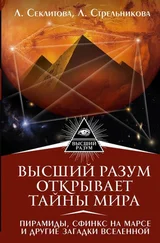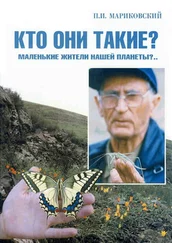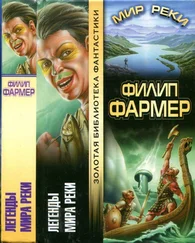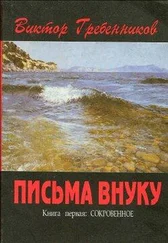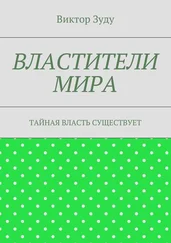Гнезда, со всеми их коридорами и ячейками, располагались в вертикальной плоскости, параллельно летковой поверхности земляного кома. Соседние гнезда были «вплетены» друг в друга отнорками и коридорами, но совершенно не соприкасались. Как соседям-пчелкам, роющим свои забои и штреки в земле и путанице корней, удается «учуять» близость других гнезд и не пробивать туннель до соприкосновения с чужой галереей — мы с вами теперь знаем: вспомните эффект полостных структур из главы «Секрет пчелиного гнезда». В каждой ячейке — аккуратном «целлофановом домике» — находилось по толстой белой личинке, почти доевшей запас медвяного теста — смеси цветочной пыльцы и нектара. Содержимое ячеек было очень хорошо видно через тонкую прозрачную пленку, и поэтому я дома без труда наблюдал, как личинки превратились в куколок, а потом и во взрослых пчелок — это произошло уже на следующее лето. Когда они выбрались из своих целлофановых келий, то перед тем, как их выпустить в заказник, мне удалось установить, что пчелы эти относятся к виду «коллет Дэвиса» — опылителю диких сложноцветных, крестоцветных и зонтичных, распространенному в Европе, Сибири, Монголии и Северной Африке и гнездящемуся только на крутых склонах.
А в наших исилькульских равнинных краях нет таких склонов. Вот и приходится самкам коллета Дэвиса искать хотя бы маленькие неровности, откосы которых приближались бы к вертикали: бока старых муравейников, насыпи у канав, землю в вывороченных пнях.
Много же километров, наверное, пришлось облететь предкам тех коллетов, которые нашли маленький бугорок, затерявшийся на крохотной поляне в лесной глуши! Но они нашли его и, будто предвидя, что земли эти станут заповедными, основали здесь потаенный «пчелоград», в глубинах которого, в аккуратных каморках, отделанных нежнейшей гладкой пленкой, каждый год воспитываются новые и новые поколения маленьких тружениц.
Сложна и интересна жизнь медоносных домашних пчел. Необыкновенное трудолюбие и слаженность, искусство строительства изумительных по красоте и точности шестигранных восковых ячеек — все это не оставляет равнодушным даже сухого, черствого человека. Медоносным пчелам посвящены десятки увлекательных книг. Но не менее интересен мир диких пчел, родственниц нашей медоносной труженицы — в этом читатель, конечно, убедился, познакомившись с тайнами жизни галиктов, листорезов, коллетов — всего лишь трех представителей огромной армии пчелиных. Я не преувеличиваю, употребляя слово «огромная»: эта армия, или, выражаясь научным языком, надсемейство пчелиных, составляет более 20 тысяч видов, уже известных ученым: ежегодно открываются новые и новые виды диких одиночных пчел. И у каждого свои повадки, свои способы строительства гнезд, свои излюбленные растения, с цветков которых они собирают пыльцу и нектар для потомства, совершая при этом перекрестное опыление этих растений.
Наука говорит: только в результате появления насекомых, выделившихся потом в группу пчелиных, возникли все цветковые, или, как их иначе называют, покрытосемянные, растения на нашей планете. Как не уважать после этого маленьких тружениц, как не изучать их жизнь, связи с растениями, происхождение, как не оберегать от гибели их поселения, порою никем не замечаемые?
В заказнике совхоза «Лесной» постоянно гнездится не менее нескольких десятков видов пчелиных — шмелей и одиночных пчел. Одни пчелки выискивают тут готовые трубчатые полости — либо галереи жуков в мертвых деревьях, либо полые стебли сухих трав, либо те жилища, что мы иногда предлагаем — связки трубочек разного диаметра. В таких готовых квартирах селятся в основном пчелы-листорезы и родственные им осмии. Но большинство видов одиночных пчел гнездится все же в земле.

Наиболее заметны из земляных пчел андрены разных видов. Еще ранней весною они вместе со шмелями и коллетами жужжат над цветущими ивняками, отягощенными золотистой пыльцой и липким нектаром, — этакие красивые мохнатые пчелы с огненно-оранжевой шубкой и черным брюшком. Есть андрены и вовсе черные, даже с синеватым отливом. Не раз мне приходилось видеть андрен, ищущих место для гнездования на земле между травами по кромкам вспаханного соседнего поля. Доводилось наблюдать, как андрена роет нору или же как доставляет в нее цветочную пыльцу: подлетает к холмику земли, которым присыпан вход в гнездо (мера против пронырливых «пчел-кукушек» и иных прихлебателей), грузно плюхается в центр холмика, прижимая к брюшку задние ноги, «под мышками» которых видны большие тяжелые комья сыпучего желтого цветня, — и быстро зарывается в холмик, над которым безошибочно находит ствол своей глубокой шахты. У дна этой шахты — каморка, куда она складывает на прокорм личинкам ароматную пыльцу. Зато мне очень жаль, что в исилькульском заказнике не обитают интереснейшие и очень любимые мною существа — так называемые мохноногие пчелы, или дазиподы. Тут неподходящая для них земля — им нужна почва с песчаным или хотя бы с супесчаным глубоким слоем, а место обитания чтоб не затоплялось надолго водой. Я мечтаю устроить хоть небольшую такую насыпь где-нибудь у кромки заказника и уверен, что ее через несколько лет освоят пчелы этого вида. Ведь живут же они очень большой колонией чуть ли не в самом Исилькуле на насыпи неглубокого старого рва, которым с южной стороны огорожен железнодорожный лесопитомник, где выращивают саженцы для посадок вдоль путей. Почти на протяжении километра летом здесь видны многочисленные светлые пятачки свежей глины и темные зияющие летки в центре многих из них. Норок этих тут сотни, а может, и тысячи. И, наверное, переместить отсюда часть гнезд дазипод (или куколок из этих гнезд) не составит особого труда. А то место, где взрослая пчелка появилась на свет, она по праву будет считать своей родиной, и место для своего гнезда, которое надлежит ей построить для своего потомства, она будет искать именно здесь, а не у далекой канавы — лишь бы почва была подходящей.
Читать дальше