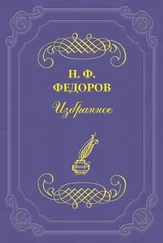Маркс и Энгельс, сохранив гегелевскую идею развития, перевернули её с головы на ноги. В основу содержания формации они положили экономические отношения: основой общественной формации является определённый способ производства; его сокровенной сутью — отношение трудящегося человека к средству труда, способ их соединения, ибо мы видим их в прошлой истории всегда разъединёнными.
Напрасно некоторые авторы приписывают Марксу и Энгельсу какой-то обратный взгляд на первобытное общество. Среди их разнообразных высказываний доминирующим мотивом проходит как раз идея об абсолютной несвободе индивида в доисторических племенах и общинах. Они подчеркивали, что там у человека отсутствовала возможность принять какое бы то ни было решение, ибо всякое решение наперёд было предрешено родовым и племенным обычаем. Маркс писал об этом в «Капитале»: «…отдельный индивидуум ещё столь же крепко привязан пуповиной к роду или общине, как отдельная пчела к пчелиному улью» [10] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 346.
. Возвращаясь к этой мысли, Энгельс писал: «Племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась, безусловно, подчинённой в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторвались еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности» [11] Там же. Соч. Т. 21. С. 99.
. «Идиллические», иронизировал Маркс, сельские общины «ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы» [12] Там же. Соч. Т. 9. С. 135.
.
На противоположном, полюсе прогресса, при коммунизме, — торжество разума и свободы.
Между этими крайними состояниями совершается переход в собственную противоположность, т. е. от абсолютной несвободы к абсолютной свободе через три прогрессивные эпохи, но эпохи в первую очередь не самосознания, а экономического формирования общества, т. е. через развитие форм собственности. Все три, по Марксу, зиждутся на антагонизме и борьбе. Рабство начинается с того, что исконная, примитивная, первобытная покорность человека несвободе сменяется пусть глухим и беспомощным, но сопротивлением; не только рабы боятся господ, но и господа — рабов. История производства вместе с историей антагонизма идёт по восходящей линии при феодализме и капитализме.
Вглядываясь в пять последовательных общественно-экономических формаций Маркса, мы без труда обнаруживаем, что, если разложить всемирную историю на эти пять отрезков, они дают возможность обнаружить и исчислить ускорение совокупного исторического процесса.
Две темы — возрастание роли народных масс в истории и ускорение темпа истории — оказались двумя сторонами общей темы о единстве всемирно-исторического прогресса и в то же время о закономерной смене общественно-экономических формаций [13] См. Поршнев Б. Ф. Возрастание роли народных масс в истории. // Вопросы философии. 1954. № 4. Его же. Ускорение ритма истории. // Проблемы мира и социализма. 1961. № 12. Его же. Общественный прогресс в свете современной исторической науки. // Какое будущее ожидает человечество? — Прага, 1964.
. Каждый последующий способ производства представляет собой шаг вперёд в раскрепощении человека. Все способы производства до коммунизма сохраняют зависимость человека — его рабство в широком смысле слова. Но как глубоко менялся характер этой зависимости! В глубине абсолютная принадлежность индивида своему улью, или рою; позже человек или люди — основное средство производства, на которое налагается собственность; дальше она становится полусобственностью, которую уже подпирает монопольная собственность на землю; наконец, следы собственности на человека внешне стираются, зато гигантски раздувается монопольная собственность на все другие средства производства, без доступа к которым трудовой человек всё равно должен бы умереть с голоду (рыночная или «экономическая» зависимость).
Вдумавшись, всякий поймёт, что эти три суммарно очерченные эпохи раскрепощения, эти три сменивших друг друга способа общественного производства именно в той мере, в какой они были этапами раскрепощения человека, были и завоеваниями этого человека, достигнутыми в борьбе. Все три антагонистические формации насквозь полны борьбой — пусть бесформенной и спонтанной по началу и по глубинным слоям — против рабства во всех этих его модернизирующихся формах.
Читать дальше
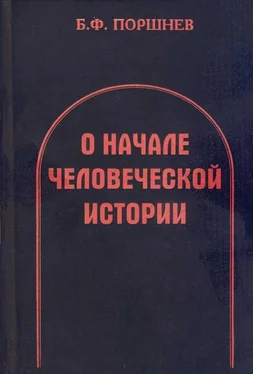



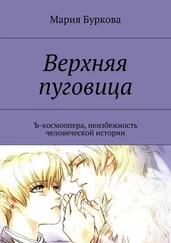
![Виталий Глущенко - Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres]](/books/388056/vitalij-gluchenko-rozhdenie-chelovechestva-nachalo-chelovecheskoj-istorii-kak-predmet-socialno-filosofskogo-issledovaniya-litres-thumb.webp)
![Борис Поршнев - Загадка «снежного человека» [Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах]](/books/390177/boris-porshnev-zagadka-snezhnogo-cheloveka-sovreme-thumb.webp)