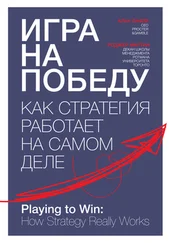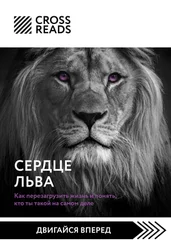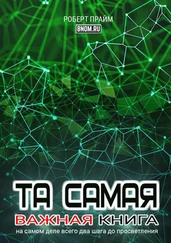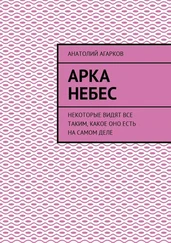Правда, кое-какая разница между животным, ошибающимся насчет будущего, и животным, вообще не предвидящим будущего, все-таки есть. Когда животное, способное предвидеть будущее, рисует в своем воображении ошибочные картины настоящего, на “видеопленку” его памяти записываются ложные воспоминания, а на “видеопленку” животного, не заглядывающего в будущее, не заносится ничего, кроме правды, пусть даже эта правда бывает бесполезна на тонком лезвии настоящего момента. Здесь мы видим примерно то же различие, что между ежедневной газетой типа “Нью-Йорк таймс”, которая вынуждена рисковать, предсказывая результаты выборов, чтобы выйти в печать как можно скорее, и еженедельником вроде журнала “Тайм”, который может терпеливо ждать, пока будут сосчитаны все голоса, и только потом решать, какой делать обложку очередного номера. В каком-то смысле “Тайм” существует вне настоящего времени, он в меньшей степени отражает новости каждого конкретного дня, зато излагает факты с большей достоверностью. А “Нью-Йорк таймс” живет сегодняшним моментом, представляя собой более подходящее чтиво на каждый день, но зато сильнее подвержена случайным ошибкам. Наше восприятие больше напоминает “Нью-Йорк тайме”.
Как издатели “Нью-Йорк тайме” поступают в тех случаях, когда их предвидение будущего дает осечку? На следующий день они печатают опровержение. Но мы-то знаем, как бы им хотелось поступать на самом деле: они предпочли бы заменить все до единого в мире экземпляры с ошибкой на исправленные. А поскольку лживые заголовки куда унизительнее для почтенного новостного издания, чем ложное мировосприятие для любого из нас, я уверен, что они, если бы только могли, не остановились бы и перед использованием устройства для стирания памяти (вроде того, которое появлялось в фильме “Люди в черном"), чтобы заставить читателей навсегда забыть уже прочитанное. После этих корректировочных манипуляций даже у тех, кто успел прочитать опубликованную ошибочную информацию, истинные воспоминания о ложных фактах были бы стерты и заменены на ложные воспоминания о фактах истинных. Поразительно, но, судя по всему, это именно то, чем обычно занимается наш головной мозг в тех случаях, когда предвидение будущего нас подводит. Хотя изначально наше восприятие в момент времени t может быть ложным, как только мозг осознает, что ошибся, он тут же “стирает”, или маскирует, воспоминания о неправильно увиденном и фабрикует новые (ложные) воспоминания, будто в момент t мы наблюдали истинное положение вещей.
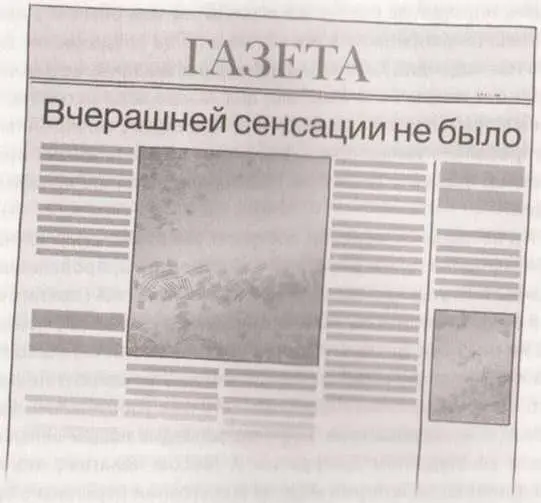
Рис. 8.
Журналистам, опубликовавшим ошибочные сведения, хотелось бы иметь возможность переписать историю. Но они не могут. У зрительной системы меньше этических ограничений, и она проделывает такие вещи постоянно, заменяя подлинные воспоминания о ложных ощущениях на ложные воспоминания о подлинных ощущениях.
Ну, по крайней мере, он поступает так в некоторых случаях. Мы приводили примеры, когда у нашего мозга, провалившего задание по предвидению будущего, не получается спрятать концы в воду. В частности, так обстоит дело в ситуациях, показанных на рис. 5-7, где мозгу дается подсказка относительно того, каким будет следующий момент, а потом этот момент не наступает. Профессор Роми Ниджхаван (его имя упоминалось здесь в связи с исследованием эффекта запаздывающей вспышки) вместе со студентом Джерритом У. Мосом полагает, что простая причина, по которой мозг не в состоянии переписать свои ложные предсказания, состоит в том, что стимулы, использовавшиеся в данных опытах, неестественны, и потому эволюция не научила мозг находить к ним подход. В реальной жизни головному мозгу обычно не удается предвидеть будущее в тех случаях, когда объект, который должен был плавно продолжать делать то, что он делал, вдруг резко подскакивает или останавливается. То есть, как правило, ошибки в восприятии будущего связаны с неожиданными изменениями, с проявлениями прерывистости (дискретности) окружающего мира. Однако в случае трех обсуждавшихся иллюзий (рис. 5-7) зрительные раздражители не имеют точки прерывания, которая могла бы послужить меткой непредвиденного события. Начнем с того, что, например, в опыте Дженнифер Фрейд с инерцией репрезентации (рис. 5 а) последовательность кадров сама по себе прерывиста. Прямоугольник на видео не вращался плавно, так что его исчезновение в последнем кадре было не более неожиданным, чем все предшествовавшие изменения. А в эксперименте с “захватом движения” (рис. 6) последовательность кадров непрерывна —движение внутри объектов бесконечно. Не происходит внезапных изменений и на рис. 7. Собственно говоря, там не происходит никаких изменений: перед нами статичное изображение. Ниджхаван и Мос считают, что именно в тех случаях, когда с объектом, будущее которого мы пытаемся предвидеть, не происходит ничего серьезного, нашему мозгу труднее заметить, что его все-таки одурачили. Ниджхаван и Мос подчеркивают, что когда неожиданное происходит на самом деле (как это обычно бывает в природе), мы воспринимаем будущее без ошибок. Точнее, мы, разумеется, воспринимаем его с ошибками, но внезапная перемена картинки дает сидящим у нас в голове “редакторам” сигнал стирать ложные воспоминания, записывая поверх них воспоминания об истинных ощущениях, которых мы в соответствующий момент не испытали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
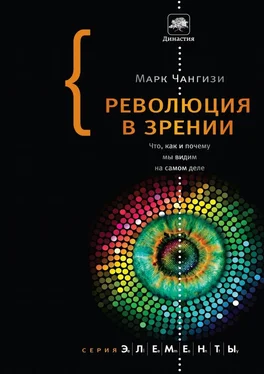
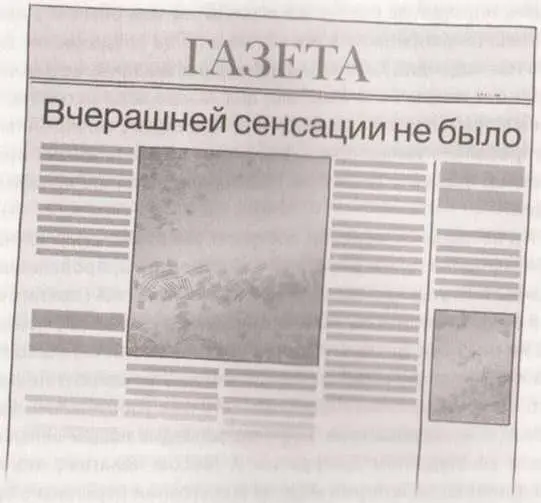

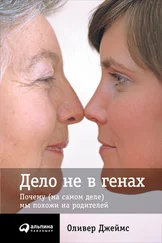
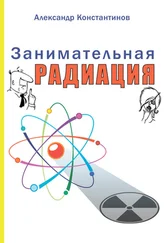
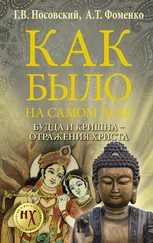

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)