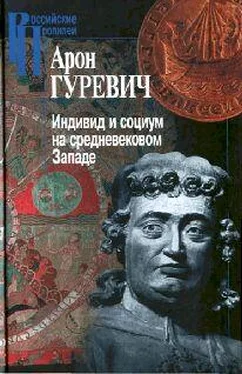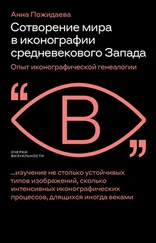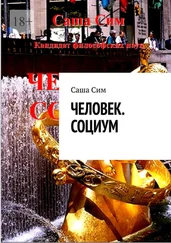Однако обращение к текстам проповедей XIII века, адресованных самым широким слоям верующих, свидетельствует о том, что взаимодействие богословской мысли с умонастроениями паствы не могло не породить новых значений термина «persona». В частности, анализируя проповеди немецкого францисканца Бертольда Регенсбургского, я встретил толкование термина «persona», раскрывающее его социальное и человеческое содержание. Под робнее см. об этом ниже.
25P. L. Т. 182. Col. 357-358. Nota bene: Бернар не просто полемизирует с Абеляром, он обвиняет его в ереси.
26 P.L. T. 178. Col. 375-378.
27См.: Неретина С. С. Слово и текст… С. 42.
28 Dronke P. Abelard and Heloise in Medieval Testimonies. Glasgow, 1976. P. 51. К сожалению, в ранее опубликованном первом варианте моей монографии (изданной на нескольких языках) был неосмотрительно использован ошибочный перевод этой цитаты Г.Мишем. Я благодарен М.Клэнчи за указание на эту ошибку, которую я спешу исправить. Я также признателен М.Л.Гаспарову за консультацию.
29 См.: Le GoffJ. Quelle conscience l'Universite medievale a-t-elle eu d'elle-meme? // Le Goff J. Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais. Paris, 1977. P. 182-186.
30См.: Баткин Л . М . Ради чего Абеляр написал свою автобиографию?// Arbor mundi – Мировое древо. № 3. 1994. С. 25-56.
31См.: Gusdorf G. Conditions et limites de l'autobiographie // Formen der Selbstdarstellung: Analekten zu einer Geschichte der literarischen Selbstportraits / Hrsg. von G.Reichenkron, E.Haase. 1956.
Сугерий и аббатство Сен-Дени
Самохарактеристики, оставленные такими различными личностями, как Гвибер Ножанский и Петр Абеляр, мало в чем совпадают, разве лишь в традиционно обязательных, но едва ли заслуживающих безоговорочного доверия формулах самоуничижения. Различия между ними, даже контраст, видны, в частности, в том, что Гвибер не отчленяет себя от окружающей социальной среды, напротив, скорее сливает себя с ней, между тем как Абеляр всячески это противостояние акцентирует, возможно, даже несколько утрирует, оставляя в тени факты, которые могли бы противоречить картине его беспрерывных бедствий и одинокого противоборства с миром.
Можно ли тем не менее подвести под какую-то обобщающую типологию Абеляра и Гвибера, как и других видных людей того времени, таких, например, как Бернар Клервоский?
Георг Миш полагает, что для средневековой личности характерна «морфологическая индивидуация», подчиняющая неповторимо индивидуальное типическому, феодально-сословному, и потому решающие ее проявления ориентированы на предзаданные и как бы вне нее находящиеся воззрения и формы, тогда как сменивший ее ренессансный тип личности представляет собой продукт «органической индивидуации», центр которой заключен в ней самой 1. Одним из многих доказательств этого обобщения служит для Миша пример аббата Сугерия (около 1081-1151), современника Гвибера и Абеляра, с 1122 года настоятеля аббатства Сен-Дени, в соответствии с идеями которого была произведена его коренная реконструкция 2.
Аббат Сугерий {франц. Сюжер) был одним из наиболее влиятельных религиозных и политических деятелей XII века. Он оказывал активное воздействие на политическую жизнь французской монархии, выступая в роли советника короля. В противоположность своим наиболее известным современникам из числа монахов и богословов, Сугерий не ввязывался в споры о соотношении веры и разума или в диспуты между номиналистами и реалистами. Подвергаясь на раннем этапе своей деятельности критическим нападкам со стороны Бернара Клервоского, активно боровшегося против украшения церковных и монастырских зданий произведениями искусства, Сугерий тем не менее сумел избежать прямой конфронтации с великим цистерцианцем и заручился если не его поддержкой, то во всяком случае относитель-
ным нейтралитетом. По сути дела, нам ничего не известно об отношениях между Сугерием и Абеляром, который, как мы уже знаем, был монахом Сен-Дени во времена предшественника Сугерия аббата Адама. В конфликте между Абеляром и монахами из Сен-Дени, вызванном попыткой Абеляра поставить под сомнение то, что небесным покровителем монастыря был св. Дионисий Ареопагит, Сугерий, разумеется, не мог не быть на стороне братии. Тем не менее в дальнейшем между «отцом схоластики» Абеляром и «отцом готики» Сугерием, видимо, особых раздоров не возникало.
Активность Сугерия была направлена на другое. Честолюбие, в каковом ему отнюдь нельзя отказать, выразилось, во-первых, в его интенсивном участии в государственной деятельности и, во-вторых, в радикальной реконструкции его монастыря. Благодаря последней, главным образом, он сумел сыграть весьма заметную роль в духовной и художественной жизни Франции, а аббатство Сен-Дени превратилось в общепризнанный религиозный центр.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу