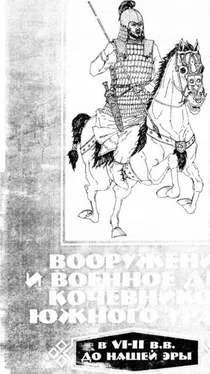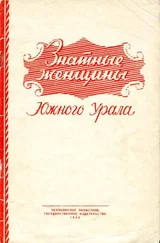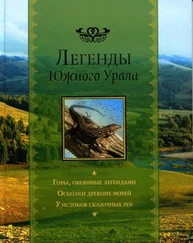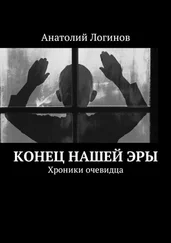Несмотря на неудовлетворительную сохранность горитов и колчанов, мы имеем три надежных свидетельства, касающихся этой категории воинской экипировки. Наиболее раннее изображение горита фиксируется на вышеупомянутой стеле из Большого Гумаровского кургана. Футляр имеет подтрапециевидную форму с четко выделенным отсеком для лука (рис.1,1).
На костяной фигурке всадника из кургана Фплипповскоги могильника горит имеет подпрямоугольную форму со скошенным нижним концом [Пшеничнюк, 1986. рис.81-82]. Верхняя часть футляра оформлена в виде волнистой линии (рис.1. 2). Как и на скифских горитах, в данном случае на одну треть футляра проработаны очертания лука, но, в отличие от первых, на нашем не видно бокового кармашка для стрел, как собственно и самих стрел. Очевидно, горит из Филипповки имел другое оформление верхней части и закрывал стрелы по самое оперение. Костяная поделка может быть датирована началом или первой половиной IV в. до н.э.
Весьма интересные данные о конструкции горита второй половины IV в. до н.э. получены во время раскопок уже упомянутого Линевского кургана (рис.1, 3) По словам С.В.Богданова, это была 'прямоугольная деревянная конструкция из округлых в сечении деревянных плашек толщиной 2- 3 см, обтянутых кожей, прошитой по торцам горита зигзагообразным швом. Длина горита около 40 см, толщина 7- 12 см, ширина около 20 см. Горит состоял из двух частей. Передняя - отделение для стрел (кожаный короб на деревянном каркасе), задняя - кожаный мешок для лука" [Мещеряков, 1997. С.47,61].
Довольно часто в погребениях ранних кочевников Южного Урала находят остатки колчанов. В тех комплексах, где невозможно определить горит это был или колчан, ответ может дать форма расположения наконечников стрел. Для колчанов характерны плотные, узкие и компактные скопления "пачки" наконечников в несколько слоев, в то время как в горитах стрелы помещались свободнее, на более широкой полосе.
Подавляющее большинство колчанов делалось из кожи (см. приложение I). Реже для этих целей употреблялась береста и дерево. Длина футляров колебалась между 50- 60 см и по всей вероятности стрелы были полностью закрыты. Археологические данные свидетельствуют, что номады южноуральских степей пользовались колчанами двух типов. Первый тип представлял собой футляр прямоугольной формы длиной 60 и шириной 10 см. Изготовлен он был из толстой коры и дощечки [Смирнов, 1975. С.90]. Второй тип колчанов имел цилиндрическую форму (Мечет-Сай, к.8,п.5) с круглым днищем. Длина конструкции 50 см, диаметр 15 см [Смирнов, 1975. С.139].
Не менее интересный колчан был найден в погребении 2 кургана 4 могильника II Новотроицк в Оренбургской области [Мажитов. 1974]. От изделия сохранилась лишь нижняя часть, сделанная из кожи. Эта деталь колчана представляла собой четыре кармашка, в каждом из которых находилось по 15-20 наконечников стрел с остатками древок. К сожалению, такая конструкция остается непонятной. Внутри каждого кармашка присутствовали наконечники разных типов, преимущественно трехгранных. Древки, взятые на определение также из каждого отделения все оказались березовыми (определение ст.н.с. Института биологии А.Ишбердина). Следовательно, говорить о каком-то функциональном назначении каждого отсека будет неверно.
В целом складывается впечатление, что колчаны у кочевников региона были более распространены, чем гориты, что собственно отличает их от скифов. Подобный способ ношения стрел сближает рассматриваемых номадов с народами Передней Азии. Кстати, еще. К.Ф.Смирнов заметил, что колчаны "савроматов" напоминают колчаны мидийцев и персидских гвардейцев, изображенных на рельефах Персеполя и изразцах царского дворца в Сузах [Смирнов, 1961. С.34].
Как было отмечено исследователями ранее, сарматские воины носили колчаны и гориты на поясе с левой стороны [Смирнов, 1961. С.34; Хазанов, 1971. С.43]. Причем лук мог помещаться в специальном чехле - налучье, на спине, как это видно на упомянутой золотой обкладке из Филипповки. Следует сказать, что колчан или горит носился даже при правостороннем помещении меча или кинжала. Случаев правостороннего ношения колчанов значительно меньше. К.Ф.Смирнов связывал этот способ с хорезмийской традицией [Смирнов, 1961. С.35]. Думается, что влияние Хорезма на военное дело кочевников Южного Урала в данном случае преувеличено, как и само существо вопроса. За исключением регулярных армий, связанных жесткой дисциплиной и строевой подготовкой, оружие носилось так, как было удобно.
Читать дальше