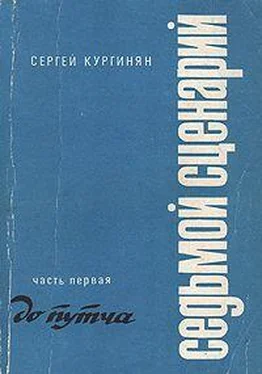Третье. Построенные Сталиным государство и общество явились типичными экстенсивными, индустриальными, коммунитарными. В этом смысле, отвлекаясь от несущественных деталей, можно сказать, что индустриальный коммунитаризм (коммунизм) в СССР мог возникнуть лишь в тех формах, в каких он существовал в эпоху, когда страной руководил И. В. Сталин. Коммунитарный индустриализм – вообще не лучший вид общества. Только идеалистические заблуждения коммунистического утопизма, считающего, что "коммунистическое – это отличное", мешают понять суть устройства Советского государства и общества в эпоху Сталина. Столь же плох и столь же противоестествен и доводимый до своего логического завершения индустриальный капитализм, империализм, рано или поздно ввергающий народы и в мировые войны, и в тоталитарные формы общественного устройства – "фашизм".
Индустриализм, двигаясь дальше тех ограничений, которые ему ставят законы социального развития, неизбежно порождает государства-монстры, неизбежно порождает тупиковые формы общественного устройства. Преодолеть эти тупики – это значит перейти от индустриализма экстенсивного к индустриализму интенсивному, а после этого к постиндустриальному этапу развития производительных сил. Этот переход означает переход от экстенсивного индустриального коммунитаризма – "сталинизма" к другим, более совершенным формам государственно-общественного строя. Такой переход наметился после смерти Сталина и должен был быть осуществлен коммунистами именно как радикальная реформа, а не как революция.
Четвертое. Вместо этого в стране и в партии началась очередная либеральная судорога, кончившаяся очередной волной реакции в брежневский период. Закономерно, а не случайно, что попытка осуществить набор либеральных реформ вместо радикальной реформы, основанной на закономерностях данного типа общества, может кончиться лишь новой волной реакции. И эту закономерность следует учитывать и осознавать тем, кто сегодня пытается вновь заставить общество "переплыть" на чужой берег. С точки зрения общественного развития либеральное мышление в СССР не могло выдвинуть ничего нового, кроме идеи прямого копирования, прямой имитации тех способов производства и общественного устройства, которые существовали на Западе. Но если Запад, учтя опыт фашизма, т. е. доведенного до предела индустриального капитализма, сумел, осмыслив творчески социальный опыт СССР, вовремя перейти на рельсы интенсивного индустриального, а впоследствии и постиндустриального развития и тем избежать тупиковых форм организации общества, то СССР и КПСС не сумели осуществить такие творческие преобразования. КПСС заявляет, что вина лежит полностью на партии как руководящей силе общества. Именно партия не сумела дать проектов и программ, переводящих страну в индустриальную интенсивную фазу, и именно партия не дала ориентиров постиндустриального развития коммунитарного общества. И, наконец, именно партия пошла путем имитаций, выражающихся формулой "догоним и перегоним по…". Эта формула изначально порочна, поскольку опыт общественного развития говорит о том, что тот, кто догоняет, никогда не догонит. Догнать может только тот, кто способен, осмыслив ситуацию, перейти от движения по "траектории преследования" к движению "на перехват". Такой тип движения предполагал бы учет и прогноз перспектив как своего общества, так и общества западного и после анализа ключевых тенденций стратегическую переориентацию общества на новые, опережающие технологии в сфере производства и на новые, опережающие принципы социальной организации. Вместо этого руководимые КПСС государство и общество, "догоняя" и "преследуя" западный мир, в силу этого все более и более отставали от этого мира и теряли способность к самостоятельному развитию. СССР в 70-е годы все более напоминал устающего бегуна на длинной дистанции, махнувшего рукой на возможность догнать уходящего от него на большой скорости лидера – капиталистический мир. Подражание лидеру, копирование худших его черт стало нормой уже в 70-е годы.
Именно поэтому необходимо отказаться от копирования западных моделей и принципов. Следует исходить из законов собственного развития.
Наше общество должно идти вперед, и его ориентир – послеиндустриализм, где действуют совершенно иные законы, где информационная свобода есть необходимое условие развития производительных сил, где конвейер уступает место компьютерной общине, а рабочий класс, пролетариат, уже не является главной движущей силой. Опыт послеиндустриального развития Японии, США, Германии показывает, что ключевым слоем, ключевой социальной группой является уже не буржуазия и не пролетариат, а новое сословие – когнитариат, объединяющий высокопрофессиональную часть интеллигенции, рабочего класса, аграриев, военных специалистов, государственного и негосударственного менеджмента. Эти работники информационной сферы, – высококвалифицированные, самостоятельно мыслящие, готовые действовать инициативно, конструктивно, – способны принимать решения и осуществлять их. Послеиндустриальная революция идет во всем мире. Попытка противостоять ей безнадежна и опасна. КПСС видит во всех процессах, происходящих сегодня в советском обществе, рациональное зерно постольку, поскольку эти процессы несут в себе зародыши послеиндустриального будущего СССР. КПСС, оставаясь на позициях категорической и безусловной поддержки рабочего класса, вместе с тем видит эту поддержку в том, чтобы содействовать скорейшему переходу рабочих от экстенсивного, изматывающего конвейерного труда к высокопроизводительному, послсиндустриальному труду, освобождающему работника. КПСС видит свою задачу в том, чтобы осуществить этот переход без ломки традиций и норм социальной жизни нашего общества.
Читать дальше