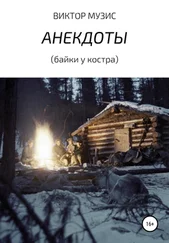- Мама! - крикнул я.
- Ну что, рыболовы? - сказала мама негромко и так нежно, как не говорила никогда в жизни.
Я бросился к ней. Она обняла меня. Я шепнул ей тихонько, чтобы никто, кроме нее, не слышал:
- Ты меня простишь?
Она крепче прижала меня к себе.
- Как же ты нас нашла? - спросил я.
- Это - мое дело, как нашла, - ответила мама, взглянув на Колю, и покачала головой.
Вдруг она сказала:
- Тише, слушайте.
Мы притихли. Издалека доносились то короткие, то долгие гудки парохода, как будто он о чем-то просил.
- Пассажирский, лодку требует, - сказала Ниловна.
- Он идет в город? - спросила мама.
- Снизу, в город.
- Ну, живо, собирайтесь! - сказала мама. - Если поспеем на лодку, - может, пароход нас посадит.
Она поцеловалась с Ниловной и велела нам поблагодарить ее за приют.
- Спасибо, - сказал я.
- Спасибо, - сказал Коля.
Мы вышли в темноту. Богатый большой пароход, весь в огнях, приближался тихим ходом. Гудок опять заревел. В ответ на берегу, около конторки, замахали слабым желтым огоньком фонаря. Мы побежали на огонек. Человек в лодке, приладив фонарь к носу, подняв весло, чтобы оттолкнуться от берега.
- Подождите! - крикнула мама. - Возьмите, пожалуйста, нас. Может быть, пароход посадит нас. Нам нужно в город.
- Ладно, скорей! - раздался грубый голос.
Я сразу узнал по голосу матроса, который прогнал нас с конторки. Я толкнул Колю, а Коля - меня: он тоже узнал матроса.
Мы забрались в лодку, сели на боковые скамеечки: мама - с одного бока, я и Коля - против нее, для равновесия, а на поперечную скамью сел у весел матрос. Он греб сильно, отрывистыми, короткими ударами, и весла легко, как поплавки, выскакивали из воды, вспыхивая желтым отблеском фонаря.
- Вдруг он уйдет? - сказала мама испуганно.
- Кто это? - спросил матрос.
- Пароход.
- Он уйти не может, - гордо сказал матрос, - он на мой сигнал ответил.
- На какой сигнал? - спросил я тихо.
- Я ему огнем помигал, что, мол, ожидай, выходим.
Пароходные огни росли, росли, лодка вошла в их разноцветные
отражения, танцевавшие в воде, мамино лицо становилось попеременно розовым, зеленым, желтым. Шум и свист пара накатывались на лодку, уже слышны стали крики с парохода, и нас страшно быстро потащило к его борту.
- Ах! - вскрикнула мама.
Матрос бросил весла, прыгнул на нос лодки, поднял руки. Мы пронеслись мимо остановившегося колеса парохода. Оно было огромное, выше матроса в три раза, и с его красных плиц лилась и капала вода, забрызгав меня и маму. На нас пахнуло горячим, душным запахом машинного масла и нефти, потом вдруг - вкусных щей. Над нами, в узенькой ярко-красной дверке, показался повар и вытер полотенцем пот с лица. Опять пролетели мимо круглые огни, и мы обрушились в темноту и остановились.
Матрос держался обеими руками за нижнюю ступеньку железного трапа, почти повиснув на нем, и кричал, задрав голову:
- Есть пассажиры! Принимаешь?
- Сколько? - прокричали с кормы парохода. - Давай скорей!
Пароход немного сработал колесами, чтобы не уносило течение, лодка начала нырять на волнах, матрос то подтягивался на трапе, то опускался, выпрямляя руки.
- Ну, полезай, живо! - скомандовал он нам.
Он подсадил одной рукой сначала Колю, потом меня, и, когда я схватился изо всей силы за трап, он шутя хлопнул меня сзади широкой ладонью и прикрикнул:
- Эх вы, сазаны!
Забравшись на корму, я обернулся и глянул вниз. Матрос очень бережно подсаживал маму, и усатое лицо его, чуть видное глубоко в темноте, показалось мне очень добрым.
Быстро спустились по трапу пассажиры, для которых вызывалась лодка, и пароход пошел полным ходом. Я насилу отыскал позади, в черной ночи, крошечный желтый огонек, скоро исчезнувший бесследно: это поплыла к далекому берегу лодка, и я подумал, что нигде не было бы страшно с усатым матросом.
Мама нашла удобное место недалеко от машины, чтобы было теплее. Когда мы с Колей устроились, я спросил у него шепотом:
- Знаешь, кто, наверное, про нас все рассказал?
- Санька Широкий нос, - шепнул Коля.
- Давай ему ничего не скажем про чехонь.
- А про сазанов?
- А про сазанов скажем, что мы их съели.
- Ага, - согласился Коля.
Все было ясно. Я почувствовал, что мама положила мне на плечо руку и что теплым, шумным, как машина, приливом меня понес куда-то сон.
‹№ 13, 1959)
Николай Грибачев

Если бы моего приятеля Федю Ершова разбудить среди ночи и сказать, что имеется возможность приобрести зеленую леску и необыкновенной прочности крючки, он потратил бы две минуты на одевание и прошел бы двадцать километров пешком. Погоду при этом можно было не принимать во внимание - он столько вылежал в пургу и мороз у лунок на подледном лове, столько гроз и дождей прошумело над его головой у перекатов и омутов, что все остальное до конца жизни никакого значения для него уже не имело. Днем Федя добросовестно редактировал сельскохозяйственные брошюры, а вечером бежал на реку, где и оставался до тех пор, пока омут доверху не засыпался звездами. По своему типу он принадлежал к бродяжьему племени поплавочников, и его обычное снаряжение состояло из трехколенной удочки, соломенной шляпы, клетчатой рубашки и резиновых сапог; в полях шляпы помещались три-четыре запасных крючка с поводками, в голенище торчал кухонный нож, который одновременно сходил за отвертку, штопор, шило и топор, на поясе в холщовом мешочке висели черви. Особенность его заключалась в том, что он презирал всякие рыболовецкие наставления и инструкции, не слушал ничьих советов и не обобщал своего опыта. Это был рыболов-импровизатор, всецело полагавшийся на собственное вдохновение.
Читать дальше




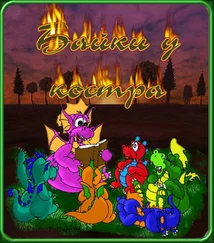
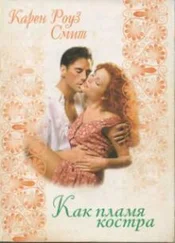

![Вячеслав Шугаев - Странники у костра [Авторский сборник]](/books/418609/vyacheslav-shugaev-stranniki-u-kostra-avtorskij-sbor-thumb.webp)