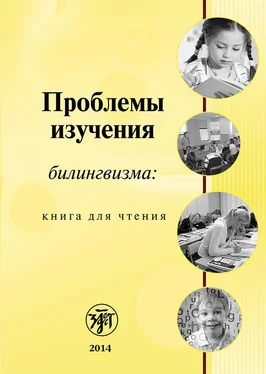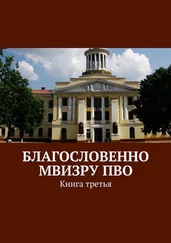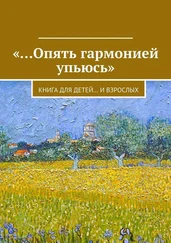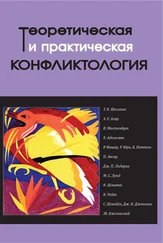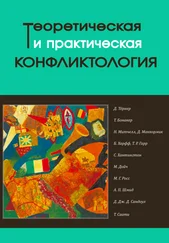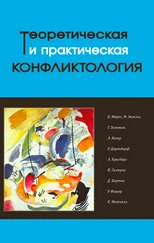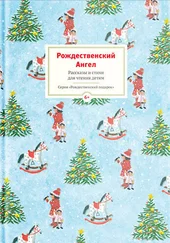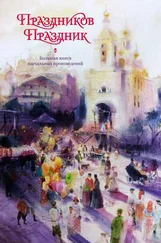Именно младограмматики, создав мощнейший инструмент анализа путей языковой дивергенции, задумались и об обратном процессе – конвергенции. В монографии, посвященной путям языковых изменений, Г. Пауль (1846–1921) посвятил пусть и небольшую, но отдельную главу языковому смешению, отметив и лексические заимствования, и создание калек – дословных переводов, и заимствование морфем. Немецкий языковед, одним из первых обративший внимание на говорящего человека и отметивший необходимость анализировать индивидуальные языковые особенности, полагал, что, чтобы изучать смешение языков, нужно исследовать сознание двуязычного человека, в речи которого проявляются языковые изменения, после находящие развитие и в языке коллектива.
Постепенно все больше ученых в разных странах приходили к выводу об ограниченности младограмматического учения, стремившегося втиснуть в прокрустово ложе фонетических и грамматических законов многообразие языковых изменений. Объектом внимания языковедов становятся языковые черты, появившиеся в результате явления конвергенции, или языкового смешения, как его называли в то время. Австрийский исследователь Г. Шухардт (1842–1927) обратился к изучению тех языков, в которых смешение наиболее очевидно, и положил начало креолистике – научному направлению, которое исследует пиджины и креолы – вспомогательные языки, возникшие на базе смешения. Возникает и развивается теория языкового субстрата, родоначальником которой называют итальянского ученого Г.И. Асколи (1829–1907), обнаружившего семитские заимствования в языке этрусков. Субстратом называют следы побежденного языка коренного населения в составе языка-победителя пришельцев; позже начинают писать и о сходных явлениях: суперстрате – следах побежденного языка пришельцев в составе языка-победителя туземного населения и адстрате – двух слоях сосуществующих языков, из которых ни один не господствует над другим. Теория субстрата помогла многое объяснить в историческом развитии языков и неминуемо сосредоточила внимание языковедов и на говорящем человеке, так как именно в речи отдельных индивидов постепенно начинается смешение, приводящее к общеязыковым изменениям.
В Российской империи одним из первых ученых, заговоривших о языковом смешении, был знаменитый польский и русский языковед Иван Александрович (Ян Нечислав Игнацы) Бодуэн де Куртенэ (1845–1929). Бодуэн де Куртенэ родился в Варшаве в очень знатной, но обедневшей польской семье. Он не только сам рос двуязычным с детства, пристально изучал сознание говорящего человека, в том числе и полиглота, внимательно записывал речь собственных детей, но и вел активную борьбу за права «малых» языков и их носителей. Бодуэн де Куртенэ писал: «Исследование отдельных индивидуумов бросает свет на исторические изменения в языке вообще. Правда, языкознание почти не может ставить опыты, руководить ими сознательно и соответственно воле экспериментатора, опыты такого рода, какие играют столь значительную роль в естественных науках. Но непосредственное наблюдение явлений, извлечение из них научных фактов можно применить и в языкознании в самом широком масштабе. И именно на индивидуумах мы можем исследовать некоторые явления в увеличенном виде или гораздо более непосредственно, чем это имеет место при исследовании такой абстракции, как язык племенной или народный» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 227].
Ученики и последователи И.А. Бодуэна де Куртенэ начинают внимательно анализировать индивидуальные ошибки полиглотов в разных языковых областях. Статьи В.А. Богородицкого (1857–1941), посвященные анализу лексических и грамматических ошибок русских в немецкой речи и немцев в русской, а также в письменных работах по русскому языку татарских школьников, работы Е.Д. Поливанова (1891–1938), исследовавшего различные формы фонетической интерференции в самых разных языках народов мира, наблюдения Л.В. Щербы (1880–1944) над «отрицательным языковым материалом» заложили традиции лингвистического изучения феномена многоязычия.
Таким образом, к началу ХХ века двуязычие рассматривалось лингвистами и как индивидуальное, и как общественное явление. Много позже, в 1961 г., У. Вайнрайх предложил различать «микроскопический» и «макроскопический» подходы: «„Микроскопическому“ рассмотрению явлений языкового контакта на материале поведения отдельных двуязычных носителей может быть противопоставлено „макроскопическое“ исследование результатов воздействия одного языка на другой. При „микроскопическом“ подходе последствия двуязычия рассматриваются на фоне языкового поведения одноязычных носителей. При „макроскопическом“ подходе мы сравниваем язык, который рассматривается как подвергшийся действию контакта, с соседними в пространстве или во времени участками того же языка, относительно которых предполагается, что они не были затронуты действием контакта» [Вайнрайх 1972: 32]. Однако долгое время исследование индивидуального многоязычия в работах лингвистов часто носило только вспомогательный характер. В статье «К проблематике смешения языков» чешский славист Богуслав Гавранек (1893–1978) писал: «Индивидуальное двуязычие может стать объектом лингвистического исследования, но лишь как симптом, а не как факт конкретного развития языка» [Гавранек 1972: 96]. Об этом же говорил А. Мартине (1908–1999), французский языковед, на протяжении многих лет руководивший одним из самых авторитетных сообществ лингвистов – Европейским лингвистическим обществом: «Тот факт, что Цицерон был носителем латино-греческого двуязычия, оставил неизгладимые следы в нашем современном словаре. Однако индивидуальное многоязычие (именно поскольку менее вероятно, что оно затронет наиболее полно структурализованные аспекты языка, а именно фонологические и морфологические модели), по-видимому, всегда будет оставаться на втором плане, и внимание лингвистов будет обращено на коллективное двуязычие в результате распространения нового языка на весь коллектив» [Мартине 1972: 85].
Читать дальше