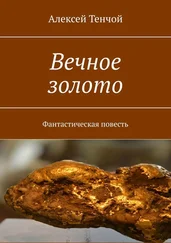Где тот стульчик? Теперь у меня трон. Подарок Сарафутдинова. Он у кого-то изъял и доставил в полночь, с боем часов. Не поленился, все сделал сам. Перетянул атласной лентой поверх розового букета, шофера отослал, принес лично. Сарафутдинов не малого роста, да и не мальчик; одышка у него, солидный живот, но трон еще больше, Сарафутдинова было не видно за ним, только слышно. Как будто это сам трон дышал, тяжело и с присвистом. Не то от натуги, не то от страсти.
Я оделась в бальное платье, приладила диадемку. Сарафутдинов совсем сошел с ума: он и меня поднял – на секунду, конечно, дольше было не выдержать даже ему. Стал цвета кирпича. Усадил, выпил шампанского из туфли, целовал педикюр. Той ночью я написала стихи. Сарафутдинов спал, а я смотрела и слагала строки о его волосах на подушке. Миндальные волосы ежиком. Моя любимая челюсть, трогательные клыки. Я писала, что беззащитна и беспомощна перед ним, не зная, что на самом деле пишу не о себе, а о нем. Он тоже оказался беззащитным и беспомощным. Он ничего не смог сделать.
Брожу в темноте. Они хотят меня ослепить. Болваны, как же я буду подписывать протоколы?
Детки тоже ослепли. Меня спрашивали, не жалко ли мне деток. Жалко, спору нет, но если честно, то в первый момент, когда я узнала, мне было жальче Сарафутдинова. Мой рыцарь был вынужден копаться в этом говне. Его терзали, на него давили, в нем убывала мужская сила вместе с достоинством.
В самом начале, как только он рассказал мне о детках, я приказала ему заткнуться. Я знала, что существует грязь, и я бы месила ее ногами, как все, ничего необычного, но волею судьбы я вознеслась, и сам Сарафутдинов предпочитал меня видеть на троне, так что окрысилась я по делу. Он-то, в конце концов, ходил по грязи, и я не возражала.
Он приехал, как обычно, к полуночи, уже прилично выпивший. Я налила себе и ему. Он снял китель, ослабил галстук и развалился в кресле. Весь, помнится, оплыл и обмяк и стал не то квашней, не то тестом. На щеках проступили прожилки, похожие на морковь в кислой капусте. Челюсть гуляла.
– Какой-то гад объявился, – пожаловался он сразу, без предисловий любви.
Сарафутдинов был генерал полиции. Я не стыдилась его. Он стал бы министром.
– Детей потрошит, – продолжил Сарафутдинов.
– Заткнись, – ответила я. – Не смей тащить сюда со службы всякую срань. Мне нет до нее дела.
Но он гнул свое, пришлось послушать. Мне стало ясно, что он озабочен всерьез, иначе бы не посмел говорить дальше.
– Маньяк, – сказал Сарафутдинов.
Он лег ко мне и отразился в зеркале. У меня большое зеркало на потолке. Я любила смотреть на Сарафутдинова, он будто пожирал меня, медленно извиваясь, в шерсти, пытался слиться со мной, но я была непроницаема, и он трудился, я вся была под ним – перед ним, бери не хочу, и было удивительно, что такому усердному не удается меня расслоить. Еще немного, и он бы утонул, растекся во мне мохнатыми щупальцами, но я выталкивала его. Клещ, захваченный каплей масла. Сарафутдинов был прекрасен, мой настойчивый герой. Люблю, когда он топчется мешком под увесистый рок, и много в нем говна, и стены дрожат, и весь он мужик. Прекрасное в нем уживалось с мерзким, и мне делалось особенно сладко, когда я не могла понять, где что. Я млела и отвращалась сразу; это настолько меня возбуждало, что все отверстия на пике восторга молниеносно расслаблялись.
– Соловушка моя, – заворковал Сарафутдинов. – Дынька. Ты моя хурма.
Помню, я дернула за шнурок. Теперь здесь темно, а прежде горели лампы в тысячи свечей. Нам обоим нравилось, когда слепит глаза и видна каждая взопревшая складочка, каждый прыщик, все волоски. Вот и тогда вокруг вспыхнуло. Я потянулась, немного стиснула Сарафутдинову яйца. Но свет на беду переменил его настроение. Может быть, он не ждал, хотя не понимаю, с чего бы. Мы всегда так делали. Свет навел его на мысли о зрении; мой генерал сморщился, сощурился. Он отлип и распростерся на простынях. С потолка на него глядел такой же Сарафутдинов, как будто настоящий умер, а наверху парила его освободившаяся душа – точная копия тела.
– Он зашивает им глаза, представляешь?
Сарафутдинов сел.
– Прекратил уже, а?
Я осталась лежать. Могу зарычать, да. Подозреваю, что во мне тоже обозначался контраст. Я в теле, но умею быть белочкой, тыковкой и хурмой, Сарафутдинов не врет. А бывает, что белочка вдруг превращается в заведующую овощным магазином. Иногда и газы отходят. Генерал даже вздрагивал, случалось, и сразу пил.
Он и тогда выпил, но не поэтому. Налил себе виски. Сожрал, как воду.
Читать дальше



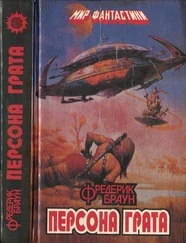




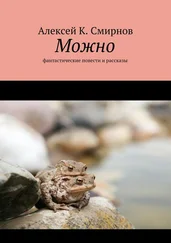
![Сергей Смирнов - Память до востребования [Фантастические рассказы и повесть]](/books/394213/sergej-smirnov-pamyat-do-vostrebovaniya-fantastiche-thumb.webp)