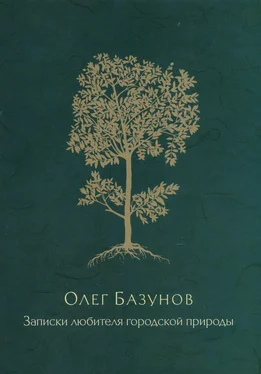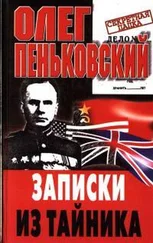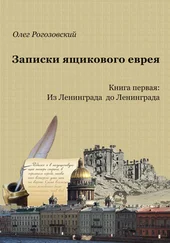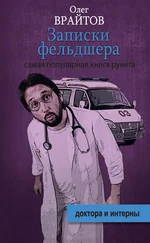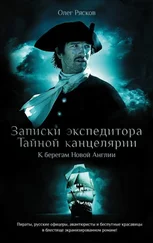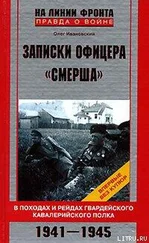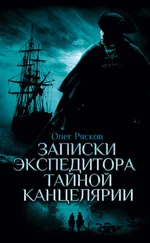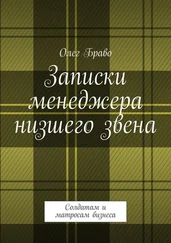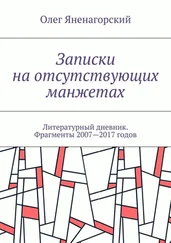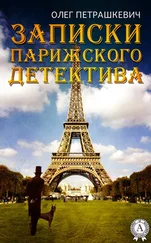Смущал Казакова и дневник Бориса, занимавший в первом варианте повести непомерно большое место; пространные «теоретические рассуждения» заметно нарушали ритм и цельность повествования. Однако в этих рассуждениях Бориса (в окончательном варианте значительно сокращенных) было выражено то, к чему должен был стремиться как художник именно он, альтер эго автора. Исходной мыслью дневника было убеждение: художник на холсте должен сливаться с природой в единое целое, открывая людям «присущую природе внутреннюю правду и жизненную силу». Мысль эта ветвилась, перепроверялась, иллюстрировалась классическими примерами. Не случайно упоминались здесь и Сезанн, и Иванов («Явление Христа народу»), и композитор Сергей Прокофьев – каждого из них особенно любил и ценил герой повести за «характерную угловатость, терпкость», проявлявшуюся в цвете, в форме, в «вязке пространства». Так устами своего героя, еще не вполне профессионала, Базунов – в поисках собственной индивидуальной манеры – пытался сформулировать и утвердить для себя программу дальнейшей своей работы.
В дневнике фигурируют два типа художников, к писателям это относится тоже. Одни приносят изображение в жертву своей индивидуальности, показывая мир таким, «каким он представляется в свете их эмоций, переживаний, горестей и радостей. Изображение человека, пейзажа или натюрморта они используют как повод для создания своего лирического портрета». Другие художники, напротив, жертвуют своей индивидуальностью ради изображаемого на холсте, у них индивидуальность проявляется «в степени проникновения в глубины окружающего мира, в силе выражения этого проникновения». Такие художники «не стремятся к иллюзорной независимости от мира; растворяясь в нем, они достигают победы над ним».
Есть в искусстве (в литературе тоже) и два метода «постижения натуры». Один предполагает «проникновение в суть изображаемого как бы снаружи, через видимую оболочку вещи, отсюда необходимость точного изображения этой внешней оболочки». Другой метод предполагает «постижение пластической сущности объекта»; и зрительное, и осязательное, и мысленное, оно совершается «как бы изнутри объекта, от познанной в нем сущности», не скатываясь к «видимой упрощенной правде».
Себя студент Борис (и вместе с ним автор повести) относил ко второму типу художников и приверженцам второго метода «постижения натуры».
Заключительные страницы дневника звучали категорично и торжественно и были адресованы всякому настоящему художнику независимо от характера его индивидуальности: «Главное – это прорваться к вершинам человеческого духа. Главное – это, зная реальный мир и крепко стоя в нем, постоянно ощущать себя на самой грани познанного и непознанного, знать, носить в себе необъятность, бесконечность вселенной, бесконечную возможность познания каждого ее атома. Главное – это переплавить в своем существе, как в тигле, все познанное, продуманное, прочувствованное, угаданное, все разрозненные элементы жизни и вылить это в формы своего творчества. Главное – это глазами, умом, чувством сегодняшнего человека стремиться постичь и выразить вечную красоту, целостность и грандиозность мироздания».
В свое время Г. М. Цурикова, приводя слова из этого дневника: «Когда изображаешь мир, нужно чувствовать, как он живет, как он движется в пространстве и во времени. Но чтобы почувствовать пульс жизни мира, жизни природы, нужно быть предельно честным и самоотверженным», – не сомневалась: «Так не столько герой размышляет, сколько сам автор. И это не просто художественный – это нравственный посыл». Недаром герой повести думал, как важно, писала она, «уметь находить радость во всем – всей душой любить то, что изображаешь. И сегодняшний мир, и тот – исчезнувший; и людей как нынешних, так и прошедших уже по земле; только любовь дает силы развить в себе неустанное стремление к истине».
Без этого посыла программа, заданная Базуновым самому себе, потеряла бы всякий смысл.
Программа эта проглянула зримо в триптихе «Собаки, петухи, лошади» (1965–1966), первоначально – «Курья суть».
Триптих? Форма, свойственная более иконописи, чем литературе. Однако Д. С. Лихачев не зря предупреждал, что прозу Базунова «не включишь ни в один из известных прозаических жанров – это не рассказы, не очерки, не повести, не романы». Специфическую внежанровость своих произведений Базунов демонстрировал и в дальнейшем, о чем речь впереди, здесь же его тяготение к такого рода вольным художественным конструкциям проявилось впервые.
Читать дальше