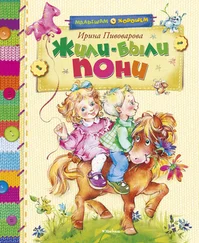Ленский отказался сообщить нам, где теперь находится отец. Одно сказал: жив и здоров, на свободе. Умолял нас не мешкать, попросил чистого полотна на портянки, а потом исчез, оставив в нашей маленькой квартире тревогу и отчаяние.
Следующим утром мы с мамой были уже на вокзале.
Наших скромных сбережений едва хватило на поезд до города за Волгой, где жила мамина сестра. Мы не очень боялись дороги, надеясь самое позднее через неделю добраться до места, поэтому взяли с собой лишь еды да немного теплых вещей. Но вышло совсем не так, как загадывали. Через сто верст от столицы поезд «реквизировали» – о, какое страшное слово! – красные войска. Быстро и решительно они высадили из вагона всех пассажиров, среди которых было несколько беременных женщин и множество детей.
Мы остались одни.
Не стану описывать всех тягот нашего пути. К середине ноября мы добрались до С* и, несомненно, продолжили бы путь, если бы не упали холода. Мама сильно ослабела в дороге и, проведя ночь под дождем, простудилась и слегла. По счастью, нас приютил женский монастырь.
Дни и ночи молилась я в монастырской часовне, а потом сидела у постели мамы. Она не узнавала меня, шептала что-то невнятное, звала отца, читала какие-то стихи… Я поняла потом, что мама чувствовала себя девушкой, вспоминала первые свидания с отцом… что ж, надеюсь, ей стало от этого хоть чуточку легче. Монахини несколько раз прогоняли меня, боясь, что я от усталости и недосыпа слягу тоже, но я упрямо возвращалась, поспав несколько часов и жуя на ходу кусок хлеба.
В середине декабря мать скончалась. Ее похоронили на монастырском кладбище, начертав на скромном деревянном кресте лишь имя и даты. Нынче некогда почитать мертвых. Нынче некогда замечать живых.
После смерти мамы я все же заболела. Ночь простояла на коленях в холодной церкви – и, наверное, простудилась. Следующий месяц помню плохо: что-то бредово-горячечное, боль в груди и неизбывное горе… Но сквозь пустоту и отчаяние что-то все-таки светило. Была ли это Даша, ниточка надежды на встречу с ней? Или мама удерживала от последнего шага, чтобы разжать пальцы, сведенные судорогой на карнизе жизни, и перестать быть? Бог весть.
А потом нужно было жить дальше. Сестры сказали: оставайся, да мне и идти-то было теперь некуда.
Я хотела принять постриг. Просила, умоляла. Но настоятельница монастыря, мать Марфа, сказала мне строго и ласково:
– Не глупи, девочка. Это боль в тебе говорит сейчас и отчаяние. Господь сам подаст знак, если будет надобно. Живи при монастыре белицей, выполняй послушание, а там сама посмотришь. Если останется твердым твое решение – значит, так тому и быть.
И я сказала себе: до следующей беды. Впрочем, казалось мне, что больше бед уже и придумать нельзя, куда же больше-то на одного человека.
Нужно было жить, а сил на это не было. Как заведенная, выполняла я всю работу, что поручали мне, что-то даже говорила, кому-то даже улыбалась. Внутри было пусто и глухо. Чернота затопила душу.
Как-то морозным днем, уже февральским, когда солнце било с крыш в предчувствии близкой весны, мать Марфа призвала меня в свою келью. Навстречу мне, входящей, поднялся со стула молодой человек лет двадцати пяти, невысокий, одетый в памятную и ненавистную мне одежду – черную кожанку, красную рубашку, высокие сапоги. Поклонился весьма уважительно, но руки не поцеловал – пожал, как мужчине. Мать Марфа, поджав губы, проговорила:
– Асенька, с тобой хочет побеседовать Аркадий Николаевич Ефимов, председатель здешнего… – она закашлялась, но молодой человек выручил ее:
– …ревкома.
– Да-да. Я вас оставлю. Прошу вас, Аркадий Николаевич, – добавила она, обращаясь к незнакомцу, – не будьте чрезмерно настойчивы. Девочка недавно оправилась от болезни и еще очень слаба.
Я была здорова уже больше месяца и слегка удивилась, но промолчала, решив, что у матери Марфы могут быть во лжи свои резоны. И оказалась права.
Аркадий Николаевич оказался действительно «председателем ревкома» – правда, я не вполне уяснила, что это такое. И совсем не поняла: что грозному и страшному ревкому от меня нужно?
Мы беседовали совсем недолго и почти ни о чем. Аркадий Николаевич расспросил меня о житье, о том, чем занимаюсь. Пояснил с улыбкой:
– Негоже молодой образованной девушке убивать жизнь в болоте. Сами же, поди, знаете: религия – опиум для народа.
Я покачала головой:
– И слышать о том не хочу. Простите… Я к Богу обращена с детства, а новые веяния мне непонятны, – и замерла, ожидая реакции. Арест?
Читать дальше