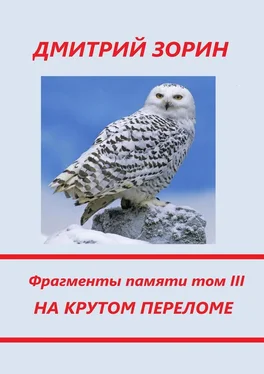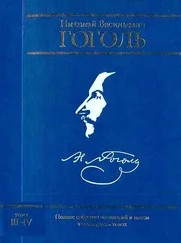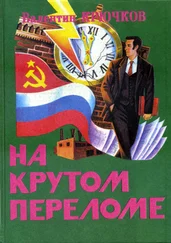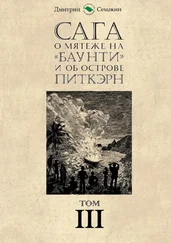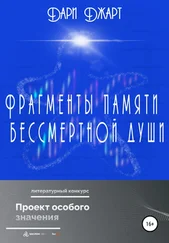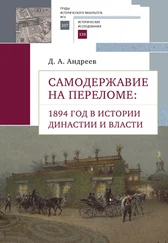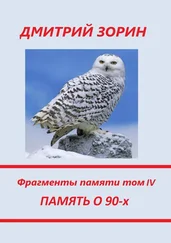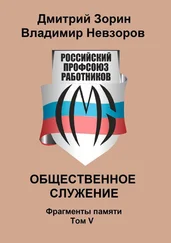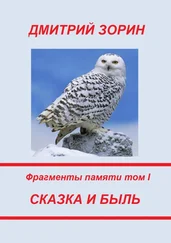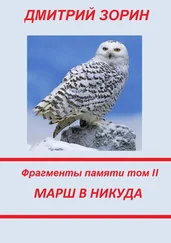Старшее поколение в своей основе относилось к этому решению более чем насторожено, а иногда и протестно, полагая под этим происки ревизионистов и врагов советской власти. Надо сказать, что во власти было не мало сподвижников, подогревать эти настроения.
Люди среднего возраста, к коим относился и я в силу определённых обстоятельств, связанных с нашим восприятием своей жизни в обществе, построенном нашими предками и, которое нас принуждали боготворить, относились к этому процессу более с надеждой, чем с настороженностью. Надо признать, что и в нашей среде было не мало идеалистов, людей слепо верящих в большевистскую ложь или идеологических психопатов. Наше поколение, также как и наши предки поднявшееся на большевистской закваске, в большинстве своём пережившее потери или смерть родных и близких в Великой Отечественной войне, перенесшее все выпавшие на долю народа тяготы и лишения, было близко им по духу. Но в отличие от глубокоуважаемых нами представителей старшего поколения, мы к началу перестройки находились на стадии освобождения от многолетнего дурмана лживой идеологии. В этом нам помогала сама партийная власть. Изменчивость её приоритетов в зависимости от смены лидеров, замшелость её принципов и постулатов, противоречивость действий и неспособность к реальному восприятию окружающего мира и адекватному его отражению в проводимой внутренней и внешней политике, вызывали недоверие к партийным лидерам и к их призывам. Наша вера в идеалы, внушаемые нам с детства, была основательно подорвана. Своё и определённой части моих современников отношение к провозглашённому партийной элитой курсу на Перестройку, я выразил в строках, написанного мною в 1987 году стихотворения:
ПЕРЕСТРОЙКА
Всколыхнула ль меня Перестройка
Пробудила ль надежду в душе
Той оплёванной, рваной, но стойкой
К фразам бывших с фамильным клише
Я ль не верил парнишкой в величье,
В мудрость Сталина верой раба,
В его равное Богу отличье.
Неразрывной была с ним судьба
Всех, кто строил, сражался и верил,
Что «путём ленинизма» идёт,
Кто историю Сталиным мерил,
С ним сверял своей жизни полёт.
И разверзлась вдруг твердь под ногами,
Что фундаментом веры была,
Когда словно могучий Цунами,
Ураганная правда пошла,
Руша веру в сердцах миллионов,
Низвергая в них образ вождя,
Вызывая проклятья и стоны,
Очищая как после дождя.
Перестройка, надолго ли это?
Хочу верить навечно, а вдруг
Не дадут нам дожить до рассвета,
И замкнётся всё снова на круг.
Полуправда и, правда, как вместе
Могут жить, об одном говоря.
Можно ль нас убедить в своей чести,
В тоже время бесчестье творя
«Демократия, Гласность, Свобода»
Снова лозунги, где же дела?
Моя память как память народа
Против фразы броню обрела
С осторожностью люди внимали
Пропаганде различных идей,
Сколько раз на борьбу призывали,
Этих верящих в сказки людей.
Я был тоже того же замеса,
Шёл со всеми в едином строю,
Был готов к переменам и стрессам,
Распахнуть людям душу свою.
Захватила меня Перестройка,
В стороне от неё мне не быть,
Коммунист я и с партией стойко
Буду биться, страдать и творить!
Приведённые строки, на мой взгляд, достаточно полно отражают эмоциональное состояние значительной части общества, представленного моим и близким ему по возрасту поколениями. Мы и осознавали назревшую необходимость перестроечных процессов в укладе нашей жизни, и были готовы принять реформы, и участвовать в их осуществлении, но нам и в голову не приходило, осуществление этого вне партии без её руководящей роли. Мы оставались её приверженными последователями, её верными бойцами.
Что касается молодёжи, то я склонен думать, что молодёжь встретила грядущие перемены со свойственным молодости душевным порывом. Опыт моей жизни, большая часть которой прошла в постоянном контакте с молодёжью, даёт мне право так думать. Мне не были чужды её образ жизни и ценности, которым она была привержена. Наше потомство к тому времени было более продвинуто в вопросах необходимости проведения в стране радикальных перемен, и проявляло готовность к активному участию в этом процессе. Естественно оно полагалось на нашу житейскую мудрость, и готово было не только следовать за реформаторами, но и принять от них эстафету на своём этапе жизненной дистанции.
К сожалению, даже сами реформаторы, а это в своей основе были представители одного со мной поколения, являющееся на том этапе направляющей и ведущей частью советского общества, на начальном перестроечном этапе ещё не выработали механизма осуществления реформ, позволяющего застраховаться от ошибок. Поэтому ещё не было эстафеты, которую необходимо было передавать следующему за нами поколению – нашему потомству. Это была трагедия, последствия которой ещё не оценены, в силу продолжительности времени действия этих последствий. И, тем не менее, жизненная необходимость перестроечных процессов у основной части общества не вызывала сомнения.
Читать дальше