Сильно, конечно, в войну мать обиделась за дочку, что не помогли, не вылечили. А от чего лечить-то – от голода? Кушать хочется всегда и сейчас тоже, как тогда: «Хлеба, ну хоть бы небольшой кусочек обыкновенного чёрного хлеба», – думает Любушка.
Она сидит на крылечке магазина со сказочным названием «Теремок», томно припекает июльское солнце, но она не может никак отогреться, сознание путается, и воспоминания мешаются… и сочиняется своя сказка о волшебном тёплом доме, в котором ждёт еда и любимый. Она знает, что сегодня заповедная ночь, в которую встречаются любящие. Сегодня её ночь: отвергнутой русалки, которая вышла из воды в поисках любви, но так и осталась неприкаянной на земле.
Прибрежный ветерок, одуряя свежестью близкой реки, ласково перебирает светлые кудри на его голове, пропуская их сквозь розовеющие пальцы закатного вечера… Она помнит и алую каплю солнца, стёкшую по небесной щеке в водную глубь, и неумолимо ускользающий с набежавшей волной трепетный шелест волос…
Он был крепок и очень хорош в свои двадцать пять лет. Ей было тридцать шесть… Она сплетала венок из цветов и трав, которых не знают обыкновенные девушки, она угадывала их в отзвуках воды и в отсветах купальских огней, они жили, струились в ней самой ароматом древнего заповедного зова…
Теперь он, толстый и лысый, приезжал иногда проведать материнский дом. Зашла как-то к нему и остолбенела. На комоде в прозрачной обёртке – высушенный венок. Откуда, батюшка, такой-то? Смеётся: «Подарок русалки из реки в руки пришёл. Дивной красоты был, даже вот засушил на память, может, грешным делом думал, хозяйка его мне явится. Вот так всю жизнь и надеялся».
– А венок-то, батюшка, мой.
– Да что ты, Любонька, – он с сожалением смотрит на неё, как на больного ребёнка. – Этот венок мог принадлежать только писаной красавице из сказки. В жизни-то вот по-сказочному не выходит – посулит судьба да бросит.
– А я и была красавица. Косы пышные по… – красноречивый жест рукой, – глаза огромные… Не туда глядел. Дайко веночек, там и примета должна быть… – Она смотрит на него торжествующими голубыми глазами на ставшем удивительно молодым лице. – Видишь, мой! А на судьбу не обижайся, она посылает, да человек не принимает, не понимает, сердешный, несмышлён ещё больно… сам идти не может, всё ждёт, когда поведут, вверх ли, вниз ли, по течению понесёт или на дно затянет, там, видно, и счастье его покоится…
* * *
– Здравствуй, Любавушка-Купавушка, – говорю я старушке, сидящей на магазинном крыльце.
– А сегодня праздник большой, – сообщает она загадочно и поясняет: – Купала.
– Хлеб-то хоть есть?
– Нет.
– Тебе чёрный или белый?
– Лучше чёрный, – отвечает.
Я покупаю ей буханку хлеба, дешёвой колбасы (сами едим такую) и упакованную стаканчиком шекснинскую сметану (говорят, самая лучшая), складываю всё в новый пакет и на крыльце вручаю ей: «С праздником!» Она рада, она счастлива, как ребёнок, и смущена. Она никогда ничего у меня не просит («вам ведь самим надо»), кроме чистых тетрадей: она пишет стихи, большей частью на заказ – свадьбы, поминки, юбилеи… – где не заплатят, так хоть накормят. Это раньше её печатали в газетах. А теперь на бумагу пенсии не хватает. Много ли ей надо самой, но дома ждут два верных кота – белый и рыжий, их-то ведь обязательно кормить нужно…
* * *
У нас она появляется редко и всегда внезапно.
– Я вот что подумала – в газету написать, весь пруд наш молодёжь загадила. Банки, бутылки. Там ведь эта танцплощадка, дак что и делается, и парк весь тоже, а его ведь школьники высаживали. Предлагала Чулкову туалет убирать, хоть за сто рублей, так нет… А там после дискотек этих…
Знаешь, Галинька, каждый раз я засыпаю с одной только мыслью: «Не дай мне Бог лишиться разума!» – жалится она. – Детство было военное, голодное. Мать привезла меня сюда, когда мне было два года, и старость вот такая же. Раньше, как инвалиду, мне пайки продуктами давали, а сейчас ничего… Полис вот не могу два месяца получить, а лекарства плохие нынче стали, не действуют, как раньше… Астма у меня, задыхаюсь, – она закашлялась, мелко-мелко затряслась всем телом. – К Сохатой-то подходила, к заместителю сельсовета, как, говорю, с дровами-то? Я ведь уже шесть лет в нетопленой квартире зимой живу. А она мне: «Пьёшь ты, чего, мол, с тобой и разговаривать». А разве так пьют? Много ли я выпью, совсем маленько, так только, перед сном – согреться, да чтоб рассудка не лишиться, поплачу тихонько, мне и легче станет, да Господа попрошу только об одном: «Не дай лишиться разума!» А так разве выжить-то? Ты, говорит, в кочегарку на ночь иди, мужики тебя пустят согреться. Хорошо, говорю, когда твой Саша-то дежурит? Муж у неё в кочегарке работает. Я прямо к нему и пойду, пусть греет. Вот так! Она и слова все потеряла, закраснелась… Кхе-кхе, – застенчиво-хитрая улыбка тронула обескровленные губы.
Читать дальше
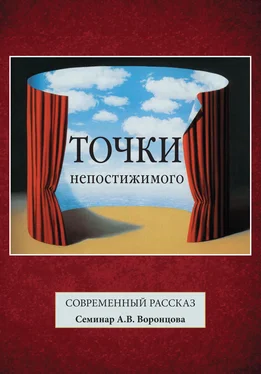




![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Арахна [Большая книга рассказов о пауках]](/books/388570/kollektiv-avtorov-arahna-bolshaya-kniga-rasskazov-thumb.webp)





