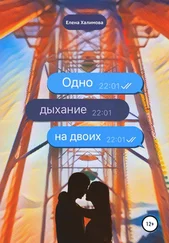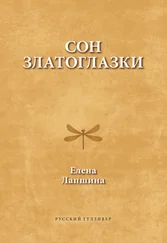Елена Погорелая «Новый мир» (№ 11/2007)
«Поэзия Лапшиной, конкретная, плотная, реалистическая, соотносящаяся возможно с техникой Нонны Слепаковой или Кудимовой, отличается от них мощной энергией неманифистируемой веры. Христианская культура и традиция освещает слишком кон- 9 кретный ландшафт ее поэзии согревающим светом переставляющего акценты чуда, в котором, на самом деле, оказывается плотность мира.
Писать на «христиансткую тему» занятие довольно-таки рискованное, потому что для него мало только веры и мастерства, нужна еще необычность взгляда, какое-то нарушение перспективы и спонтанность изложения. У Лапшиной эта спонтанность присутствует – в широком дыхании, в захваченности природой, в распеве. А что касается нарушения геометрии – вместо него заявлены сила, прямота и та самая чистота, которую в Китае еще называли «чэнь» – искренностью, наполняющей деревья, реки, горы, и, если повезет, самого поэта. Вне ее поэзия – духовная, а какая еще? – не совершается. Поэзия Лапшиной – совершается и в этом, и в чисто изобразительном смыслах. Она полна энергии и чувства дистанции, без которой сама энергия делается бесформенной.
Я рад был читать стихотворения и дышать их свежей и сильной атмосферой, на вкус – предгрозовой.»
Андрей Тавров (2009)
«Через целую жизнь – отгордившись грехами отцов…»
Через целую жизнь – отгордившись грехами отцов
и наделав своих, – наконец принимаю сиротство.
Чёрно-белые карточки милых моих мертвецов
в неопрятном альбоме теряют портретное сходство.
Я вас помню не так… Я за вами иду по пятам.
Вы такие, как есть, – это мой коленкор изменился.
Призакроешь глаза – и как будто проснулся не там.
И как будто не жил, а кому-то навязчиво снился.
В подмосковье весна – захолустному снегу каюк,
мать-и-мачеха прёт, и на Пасху такая отрада!..
Улетевшие птицы, ну как там обещанный юг?
А у нас тут земля проседает, корёжа ограды.
За любой недогляд плотяное пуская на слом,
землеройствует жизнь… Но порою привидится снизу,
будто небо меня задевает своим подолом —
я тихонько лечу, ухватившись за синюю ризу.
«Поскрипи, поворочайся, ляг на живот…»
Поскрипи, поворочайся, ляг на живот.
Чуть сморило и вот:
чу! – мышиный обход,
комариное соло над ухом плывёт,
кто-то певчий из сада зовёт.
И скрипичным концертом тревожат сверчки.
Со смычками в ладу
покачнутся в саду
георгинов испанские воротнички
и стреляют люпинов стручки.
Отдохни от забот, позабудь урожай.
И на лунном полу —
полуночном балу —
стань на цыпочки, девочка, воображай —
закружи, завораживай – не возражай! —
продолжай, продолжай, продолжай…
«Не спится в дому полуночном за ветхой стеной…»
Не спится в дому полуночном за ветхой стеной,
где ходики ходят и мучит их звук жестяной.
В саду не шелохнется ветка, не хрустнет сучок.
Глаза призакроешь и тут: то заскрычит сверчок,
то в старом буфете впотьмах, нагуляв аппетит,
упорная шушера-мышь вермишелью хрустит,
то стукнется тихо о землю неспелый ранет.
И маятник чиркает воздух, а времени – нет.
А есть полотно на стене и сюжетец на нём:
дырявый котёл в очаге с неподвижным огнём.
Вглядишься, а там на холсте – ничего уже нет.
И только в прореху сквозит немерцающий свет.
«Что Герда – седому Каю…»
Что Герда – седому Каю —
остуды его года —
прощаю и выкликаю
глядящих из-подо льда.
Какое тут сердце сыто
свободой своей чумной?
Во льду нелюбви Коцита
теплее ли, чем со мной?..
«На даче – лепота: пионы и люпин…»
На даче – лепота: пионы и люпин
толкутся у стола, заглядывая в чашки.
Теплынь, а ты с утра ворчишь, и ты – любим
до каждой клеточки на клетчатой рубашке.
Смородиновый чай, кузнечики у ног,
сомлел соседский кот на плиточной дорожке.
Ты отгоняешь прочь цветочный табунок,
встаёшь из-за стола, отряхивая крошки.
И всё ещё – оса над чашкой голубой;
и всё уже – как есть, и не в чем сомневаться.
И фотку бы в альбом: «Вот это – мы с тобой»…
Но это – я и ты – в свои невосемнадцать.
И надобно опять – в прозябшее жильё —
отважиться на жизнь с повадкой постояльца —
в болезни и нужду, в безлюбие твоё, —
чтоб не пускать корней и смерти не бояться.
Читать дальше

![Елена Звездная - Дыхание Смерти [СИ]](/books/24251/elena-zvezdnaya-dyhanie-smerti-si-thumb.webp)