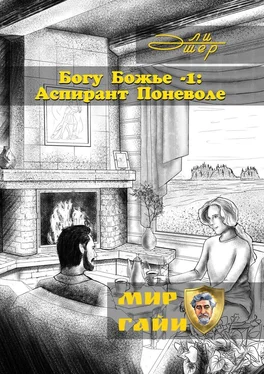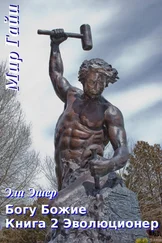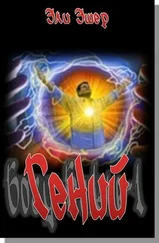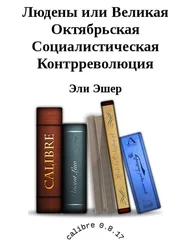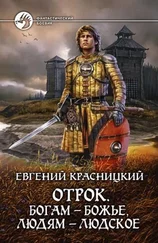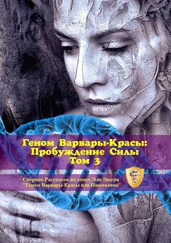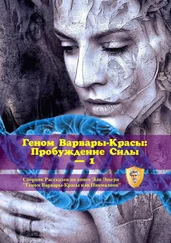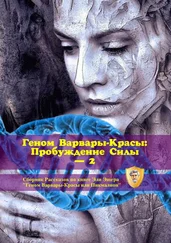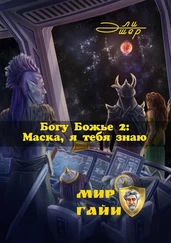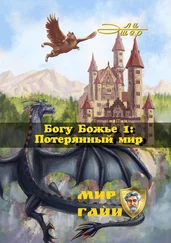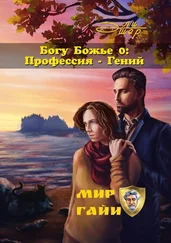Еще некоторое время прошло, пока репликанты кушали друг друга, и поскольку при этом часть углеводов терялась для получения энергии на охоту, а взяться новым с такой же скоростью было неоткуда. Начала надвигаться следующая экологическая катастрофа – есть становилось просто некого. Спасла ситуацию Гайя, которая вбила себе в голову, что так продолжаться долго не может и для репликантов нужно создать базовую энергетическую платформу, состоящую из двух типовых клеток. Первая должна поглощать свет и генерировать углеводороды из воды и углекислого газа атмосферы, и она будет служить долговременным источником углеводородов на поверхности планеты, а то постоянно помешивать океан метеоритами никакого терпения не хватит. А если кто слишком умный, может сам торчать у плиты, чем терроризировать жену! Вторая будет позволять разлагать углеводороды в доступную энергию, причем делать это эффективно, выжимая из с трудом полученных углеводородов столько энергии, сколько возможно. Это было нужно, поскольку полученные до этого примитивные бактерии делали это совершенно бездарно, не столько поглощая, сколько надкусывая добываемую еду и выбрасывая фантастически сложные и опасные объедки в окружающую среду.
Женская упертость, совмещенная с везением плюс упорное перемешивание и подогрев в течение пары миллиардов лет привели к получению бактерий обоих типов, ныне знакомых нам как клеточные органеллы – хлоропласты и митохондрии. Хлорофилл оказался ценным приобретением, и питающиеся солнечным излучением одноклеточные репликанты – архебактерии-прокариоты – начали плодиться со страшной скоростью.
Первым делом они начали активно формировать колонии на небольших глубинах, куда доставало солнечное излучение, причем образующийся при этом чистый и очень ядовитый для репликантов кислород создавал так называемые «кислородные карманы» – безжизненные (за исключением самих фотосинтезаторов), отравленные ядовитым кислородом зоны локальных экологических катастроф вроде Чернобыля и Фукусимы. Увы, на заре истории солнечная энергетика была очень опасным и экологически грязным занятием.
Поначалу выделяемый ядовитый кислород тут же поглощался в процессе окисления горных пород, равно как и подходящих газов первичной атмосферы – сероводорода, метана и аммиака. В общем, как и с загрязнением окружающей среды или использованием нефти в ХХ веке, казалось, что халява будет вечной.
На поверку это оказалось не так. Как только все, что могло гореть в атмосфере и на поверхности – сгорело, точнее, медленно окислилось, произошел каскадный эффект, и атмосфера заполнилась кислородом, который тут же уничтожил большинство репликантов первых поколений, за исключением спрятавшихся в глубоких горных расселинах и горячих серных источниках. А поскольку потреблять кислород было еще некому, то его концентрация продолжала опасно повышаться, а вкусный углекислый газ в атмосфере исчезать. Именно с этих времен Гайа и заимела хомячью привычку прятать исчезающие виды во всяких специально создаваемых труднодоступных местах вроде тех же расщелин, сероводородных источников, или вулканических плато, благо некоторый контроль над магмой имелся.
Третью экологическую катастрофу около двух миллиардов лет назад предотвратили оставшиеся и приспособившиеся репликанты на основе второго типового энергетического комплекса Гайи. Выбравшие роль паразитов, они стали существовать за счет разложения этих самых сложных молекул кислородом – то есть процесса обратного тому, который использовали репликанты, живущие за счет солнечного излучения. В результате был достигнут первый в истории экологический баланс, при котором одни репликаторы использовали солнечную энергию, чтобы превращать углекислый газ и воду в сложные молекулы углеводородов и кислород, а другие ели первых, сжигали углеводороды в кислороде и получали обратно углекислый газ и воду. Система требовала излучения звезды, но в остальном обещала быть достаточно самоподдерживаемой с минимальной потребностью вмешательства.
Заметим, что все эти героические усилия предпринимались с целью получить все более сложные и причудливые химические реакции в этих крошечных одноклеточных пробирках, сложность которых уже начала достигать уровня, когда большая часть традиционных химических знаний оказалась если не бесполезной, то катастрофически недостаточной. Короче, ожидания частично оправдались, и жить в единой информационной сети, включая всех новых персонажей, стало значительно интереснее, хотя и не настолько, как хотелось бы.
Читать дальше