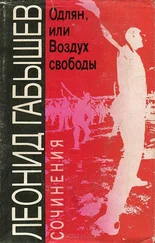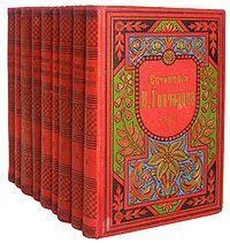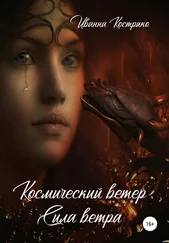Ему ли знать, чей путь его ведет,
земля ли ищет или небо кличет,
чей это голос вынести не смог
неуловимой тяжести обличья.
Кто был здесь? Говорящий человечек,
владевший языком членистоногим,
умевший говорить повсюду эхом,
не зная ни молчания, ни речи?
Иль проходило наважденье скрипок,
поющих без смычков под талым льдом,
сопровождавших костяную флейту,
чей голос доносился из крыла,
протянутого в воздух при полете?
Иль шепот оглушенный осязанья?
Иль воздух, перепутавший улыбку
с гримасой отвращения и боли?
И кто б здесь ни был, пусть спешит в рассвет.
Но эхо без свободы и надежды,
как угол, запечатанный в оправу
на нем пересекающихся стен.
Пусть круче соли медленный подъем
груди при вдохе и зрачки белеют
сквозь негашеный сумрак – все плывет,
становится дыханье невесомым,
когда его выталкивает время,
свой голос неспособное узнать.
«Там, где снег, от беспамятства черный…»
Там, где снег, от беспамятства черный,
на лету начинает белеть,
Марьин корень на пасеке горной
мреет в бусах лиловых, как медь.
Еще остекленевшее дыханье, колючее, как угольный
рисунок, еще не отрешенный от холста, тебе напомнит
привкус хлорофилла, прозрачного в безлиственном лесу, где
мир двоит в присутствии дождя и бережною кровью
отраженья, процеженного отсветами солнца, опутывает
воздух и хранит.
Попробуй отказать ему в величье – в промозглой мордочке
мышиная догадка: он душу может видеть в перспективе,
сжимать ее, чтоб теснота звала к движению. И это ль не
попытка у времени отнять неотнимаемое?
Неукротимое нельзя представить хрупким, но хрящ минуты
тонок и бесследен – ее нельзя вдоль пальца провести. Ее
лишь можно обрести как вечность, способную к земному
воскресенью, назвать собой и выпустить из рук.
Тогда и приближается возможность немного задержать свое
дыханье, явившееся в образе дождя.
Рулоны дня – как легкая повязка на капле дождевой. Вся эта
прелесть собой напоминает заточенье, но это только видимая
связь.
Как будто сопряженные движенья расторгнуты в безмолвном
поединке: отбрасывают тени не предметы, а мысли,
извлеченные на свет.
Так снег умеет пить наискосок свободу взгляда. Не передать
огнем и воздухом, не заучить его побег в уклончивую тьму.
Так в час рассвета белая стена меж окон беззаботна и
прозрачна.
Нельзя лишь только правдою назвать свой грех пред временем
и этим искупить вину пред ним.
Домашний зверь, которым шорох стал
и ход лесной, – вот этот стол уютный.
В своей глуби он дикий быт смешал
с возней корней, таинственной и мутной.
И иногда с поверхности его
под шум ветвей, замешанный на скрипе,
как скатерть рук, сползает торжество
медвежьих глаз, остановивших липы,
их мягкий мед, скользящий по стволам,
сквозь лапки пчел, сквозь леденящий запах.
И в этот миг живут по всем столам
немые лица на медвежьих лапах.
«Хотелось вынести из света…»
Хотелось вынести из света
ни с чем не смешанную тень
и ждать, чтоб жил на крыше где-то
неначинающийся день.
«Стоишь одна у входа в этот лес…»
Стоишь одна у входа в этот лес,
где каждый лист – потомок ожиданий,
и каждый шаг отчетлив, как последний.
Уже не вдох стоит перед тобой,
а ты на вдохе ищешь равновесье –
так дышат травы, облака и годы.
Лицо дождя, заплаканное в день,
когда он шел, теперь уж просветлело –
его глазами смотришь ты на ветви.
Ты входишь в куб, зеркальный изнутри,
где птичья ночь шуршит в его объеме
и прошлогодний снег щекочет губы.
Как смертный звук, пробившийся из тьмы,
еще незримо, но уже знакомо
слух отстраненный прячется в пылинке.
Не так ли сердце взвешивает стук?

Пришел поэт и рассказал: «В одном северном королевстве, где два моря встречаются на песчаной косе и справляют танец целующихся волн, одиноко возвышается церковь с корабликом под потолком. Она стоит на песке, под которым погребена более древняя церковь. Ее занесло штормами, приливами, и люди не стали ее откапывать. И так потому случилось, что сменилась какая-то вера или что-то сменилось в вере, но до сих пор из-под этих песков временами доносится звон».
Читать дальше