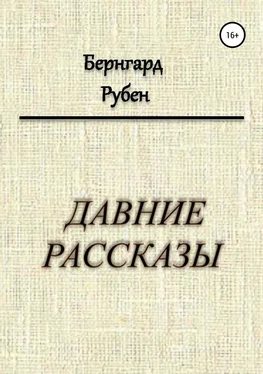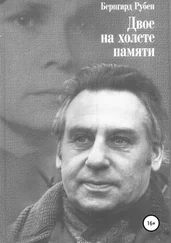Она оценивала маму, как натуру пассивную, и сочувствовала отцу, у которого в душе постоянно – несмотря ни на что происходившее с ним и вокруг – позванивала струна радости жизни. А мама всю жизнь преданно любила его одного и в молодые годы держалась с достоинством, когда ей говорили о его романах. И в войну она стойко перенесла эвакуацию в глухую деревню на Урале, где самоотверженно работала воспитательницей в детском лагере, с которым выехала. Но потом ее стали одолевать недуги, обострилось всегдашнее беспокойство о здоровье отца, подорванном фронтом и многолетней сердечной болезнью. И тут давние и недавние обиды – крупные и мелкие, справедливые и несправедливые – вышли наружу. Я видел, как отцу было трудно дома, знал, что он подолгу бывает в отъезде по своим делам, но считал, что он привязан к маме. По крайней мере, он всегда чувствовал себя ответе за нее…
В тяжкий час смерти отца я не идеализировал его совместную жизнь с мамой в последние годы, когда они оба болели, не находили общего языка и в их отношениях нередко возникала безысходность. Но все равно это была их жизнь и жизнь нашей семьи, и не следовало другим людям задним числом вносить в нее собственные коррективы. Я не знал, что говорил отец тем родственникам о своих планах, что обещал женщине, с которой был связан в это время. Но ни мне, ни маме он не сказал о своем намерении уйти из семьи. И, главное, ничего сам не переменил при жизни. Не решился, не смог, не успел – как угодно. Но – не переменил. Так чего же было теперь, после его смерти, затевать возню у гроба? И мне пришлось тогда все расставить по своим местам.
От обрушившихся на нее ударов мать окаменела. Она не высказала ни слова обвинения сестре и ее мужу за их измену, никому не изливала свое горе, двигалась машинально, говорила тихо-тихо и как-то пугающе спокойно. И не плакала. «Лучше бы ей плакать», – говорили мне. Ее пытались вывести из такого внутреннего переживания. Она благодарно внимала сочувствующим. Но слез у нее не было. Только большие, сухие, медленно и печально глядящие глаза. Недвижно стояла она у гроба, слушая официальные речи и проникновенные слова друзей и товарищей отца по работе. На кладбище она по обязанности кинула в могилу первый ком земли и все так же недвижно простояла до конца похорон.
В те скорбные дни я был рядом с нею, старался, чтобы она чувствовала во мне опору. Но мне надо было возвращаться в полк. Близкие нам люди, родные и знакомые, обещали опекать маму. Они в один голос советовали ей заняться делами – оформлением пенсии, обменом комнаты, что должно было хоть немного отвлечь ее от горя. А уехать из этой коммунальной квартиры мы намеревались еще раньше из-за соседки, писавшей на нашу семью доносы. Теперь оставаться здесь маме одной было тем более невозможно. Она соглашалась с советами и обещала мне приняться за эти нужные дела. Казалось, она подчинилась судьбе, покорно приняла потерю отца, без которого ныне должна была жить дальше. И я отправился в свой полк, находившийся в летних лагерях.
Когда же через несколько дней я вырвался проведать маму, на меня пахнуло новой бедой. Неладное почувствовалось сразу, только открыл своим ключом входную дверь. Двери из кухни и нашей комнаты, обычно плотно затворенные, чтобы не проникали кухонные запахи, были раскрыты, и два светлых полуденных пятна освещали недлинный коридор. Из комнаты выглянула мама, скользнула по мне взглядом, скрылась было назад, потом вышла в коридор, прижав кулачки к груди. Она странно топталась на месте и смотрела куда-то мимо меня.
– А, сыночек, это ты. Очень хорошо, что приехал. А у нас все плохо, все очень плохо, да, сыночек, – говорила она почти шепотом, быстрее обычного, не приближаясь ко мне.
Взгляд ее беспокойно блуждал, не пересекаясь с моим и не останавливаясь на одной точке. Я подошел к ней, обнял одной рукой, другой положил фуражку на вешалку.
– Здравствуй, ма, дорогая моя!
– Здравствуй, здравствуй, сыночек, – скороговоркой произнесла она, сильнее прижимая свои кулачки к груди.
– Ма, милая, посмотри на меня, – попросил я, все еще обнимая ее в прихожей, – ведь я приехал…
– Да, да, сыночек, хорошо, я посмотрю…
Она обратила взгляд ко мне, и я увидел нервно двигающиеся зрачки ее глаз. Этот взгляд был устремлен внутрь себя и сцеплен с какими-то назойливыми мыслями, беспокойно провертывающимися в ее голове. И глаза, словно стрелки приборов, отражали эту ее внутреннюю смятенность.
Обнимая мать, я вошел с нею в комнату, усадил на диван, сел рядом и покрепче прижал к себе. Я был обеспокоен и инстинктивно старался принять в себя весь этот тревожащий ее изнутри нервный заряд – так, как земля вытягивает электричество из пораженного тела. И мама вдруг устало повела веками, вздохнула глубоко и притянулась ко мне. На какое-то время она затихла, но потом опять забеспокоилась, испугалась чего-то, уперлась кулачками мне в грудь.
Читать дальше