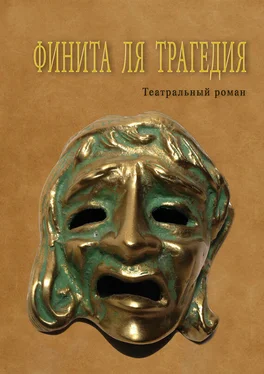Клянк-клянк…
Проклятый звук. Я ненавидел его. Одна трубка в лампе не светилась уже второй год. Поменять ее у меня не было ни сил, ни желания.
Клянк-клянк!..
Комната освещалась мертвым серебристым светом. От него становилось дурно. Я возвращался в постель и с головой накрывался одеялом, но свет не тушил. Через какое-то время приходила бабушка. Она должна была думать, что у меня все в порядке, и я старался дышать ровно. Чаще всего мне это удавалось. Постояв немного возле моей постели, бабушка тушила свет.
Газ в лампе еще долго светился. Я физически чувствовал его свечение, хотя был укрыт с головой. Ступая на цыпочках, бабушка выходила из моей комнаты.
Начиналась ночь…
Моя пишущая машинка сломалась. Однажды утром безо всякой видимой причины она перестала работать. Умерла и сразу стала неприглядной и лишней. Мне не захотелось ее чинить. С некоторого времени на моем письменном столе вся семья приспособилась готовить себе бутерброды, благо холодильник стоял рядом. Кругом на яркой зелени сукна валялись неубранные крошки. Они сохли и колюче скрипели под руками. Что было мерзко до противного.
И еще я был болен.
В мою болезнь не верили даже врачи. Внешне, кроме черных кругов под глазами, она никак не проявлялась. Когда я заговаривал о них c врачами-мужчинами, мне игриво подмигивали. О том, как к ним относились женщины, я уже писал.
Мне шел двадцать третий год.
В самую обычную ночь в конце февраля, когда за окном нудно лил дождь, все и произошло…
Он вышел из угла комнаты и присел на край моей кровати. Он не поздоровался. Не представился. Просто заговорил со мной, как со старым знакомым. Его амикошонство меня почему-то успокоило. Я выполз из-под одеяла и, упершись головой в резную кроватную спинку, сел на подушку. Глянул в окно. Оно было черным. Во рту у меня появился сладковатый вкус крови.
Но и это меня не напугало, я слушал.
– Я долго не знал, что мне делать с вашим чудным самомнением… – между тем неторопливо говорил он. – Каждый твой предшественник был одержим им. Раньше я никак не мог решить, что же мне с ним делать. Но потом привык. Можешь называть меня, ежели угодно, Племянник. Пусть тебе кажется, что ты сам меня придумал! Так считать – твое право. Ты ведь сейчас думаешь, что я всего лишь плод твоего болезненного воображения…
Он был прав: я думал именно так.
– Болезнь – лишь предлог! – поучающе продолжил он. – Причина – совсем, совсем другая… – тут назвавшийся Племянником замолк. Его молчание не тяготило меня, оно давало возможность думать.
– Причина другая… – задумчиво повторил он. – Разговор бы у нас состоялся все равно. Рано или поздно. Болезнь только приблизила его. Ты очень рано открыл в себе страх, обычно он приходит ближе к старости. Когда, чаще всего, уже поздно. Ибо страх перед неведомым, что стоит за смертью, порождает веру. Ты уже сделал первый шаг. Я могу говорить с тобой. При моем появлении ты не перевернулся на другой бок и не заснул, не щипал себя за руку, не зажег свет. Ты уже ждал меня!..
И снова наступило молчание. Я смог подумать о вере. Сама по себе пришла мысль, что вера – первонеобходимое человеческое чувство. И ничто так не карается после жизни, как неприобретение ее или же утрата…
Потом я понял, что эта мысль пришла ко мне не сама.
Он заговорил опять.
– Я мог бы открыть тебе, когда ты умрешь. Но зачем? Тебе не станет от этого легче.
Я подумал, что он прав. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что знание своего часа успокоило бы меня, и хотел просить открыть мне его.
– Я рад, – сказал он, – что ты со мной согласен…
Я попытался его разглядеть. К тому времени он уже пересел в кресло, стоящее возле окна, и сидел, не сняв цилиндра, закинув ногу за ногу. Его длинные худые пальцы крепко сжимали трость. Но мне почему-то казалось, что он сидит, несмотря на свою позу, затылком ко мне. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я убедился, что так оно и есть.
Но и такая дикая странность меня не испугала и даже не смутила. Более того, я воспринял ее, как должное.
– Ты хочешь стать писателем! – между тем твердо произнес он после очередной паузы.
Я вспотел.
Да, да, да, стучало, как дятел, у меня в мозгу, но язык мой, сам по себе запинаясь, пролепетал: «Дело в том, что у меня сломалась пишущая машинка, и на моем столе приготовляют бутерброды…»
Больше я ничего не успел сказать, хотя хотел произнести еще много слов. Очевидно, ему они были незачем. Он наперед знал все, что я мог ему сказать.
Читать дальше