Домой, то есть к родителям в деревню, я решил съездить через неделю, а пока возместить недостаток капусты в организме обыкновенным кефиром.
Поужинав лапшой, колбасой, чаем, я покурил – курил я на кухне, открыв форточку, – и вышел из квартиры в коридор, мне надо было сходить в туалет. В коридоре было темно, видимо, лампочка опять перегорела.
Когда я вышел из туалета, справа по коридору я заметил какой-то желтый колыхающийся свет и остановился заинтересованный. Медленно из-за поворота выплыла (она всегда ходила очень плавно и осторожно) Старая Мышь со свечой в руке. Свеча была установлена в чайную чашку. Желтый свет от огонька освещал верхнюю часть женщины, серую шаль на узких плечах, туго стянутую на впалой груди, небольшую головку с прилизанными пепельно-седыми волосами, собранными в тонкую, как крысиный хвост, косу на затылке, отблески огонька сверкали в стеклах старомодных очков. Старая Мышь медленно, заворожено плыла по направлению ко мне. Я никогда еще за все время проживания в этом доме близко не сталкивался со Старой Мышью и, честно говоря, не желал сталкиваться. Эта пятидесятилетняя маленькая женщина, одинокая и до ненормальности тихая, представлялась мне серой печальной тенью, иногда показывающейся в коридоре и тут же исчезающей за толстой дверью своей квартирки. Странно сказать, но я даже голоса её никогда не слышал. Всё, что я знал о ней, было рассказано Мусей Владимировной (моей квартирной хозяйкой) в трех словах: уже давно живет в этом доме и работает на почте, крайне одинока, раньше была молодой, – Муся Владимировна помнит это, – но не слишком изменилась, постарев. Жила с матерью, пока та не умерла 15 лет назад.
Какая-то тайна, возможно, даже роковая, скрывалась в судьбе этой старой женщины, похожей на тень. Старой женщины – не совсем точно, вернее будет сказать: состарившейся девушки. Как это печально звучит! – состарившаяся девушка.
Огонек свечи в её руках колыхался слабо. Она уже достаточно приблизилась ко мне, чтобы осветить меня. Я отвернулся и собрался, как говорится, идти до своей хаты и тут услышал её слабый голос:
– Постойте, Никита.
Надо же! Она знает, как меня зовут.
Я обернулся. Она подошла, маленькая, тщедушная. Запахом пережаренного кофе повеяло от неё. Впервые я рассматривал её вблизи: мелкие черты лица, острый носик, тонкие бледные губы, от которых лучиками расходятся морщинки, серые усики над верхней губой, чистый, несколько большеватый лоб, плавно переходящий в общую округлость головы, доверчивые, по-моему, светло-серые глаза за стеклами очков – какие-то наивные, испуганные, без ресниц. Я был прав, когда назвал её состарившейся девушкой. В молодости она не то, что не была симпатичной – она не была яркой, способной привлечь к себе внимание. Блеклость внешности усиливалась блеклостью поведения. Мужчинам она всегда казалась чересчур тщедушной, слабой, трусливой, бесхарактерной, короче, никакой. Она была молью или мышью. И её голос, тихий до болезненности, выдавал всю её застенчивость. Даже сейчас, старше меня на 25 лет, она робела передо мной, как перед большим влиятельным человеком, хотя я всего-навсего дворник.
– Вы… вы… не поможете мне? – спросила она.
«Чем же я могу помочь тебе, грустная девушка? – подумал я. – И не поздно ли теперь искать помощи? Двадцать лет назад еще можно было попытаться что-то сделать. Но сейчас… боюсь, что слишком поздно». Мысли были какие-то не мои – на самом деле, всерьез, конечно, я так не думал – наверное, это я так сам про себя мысленно шутил.
– А что нужно делать? – участливо склонив голову набок, спросил я.
– Нет… если вы торопитесь, то я сама… тут не долго… Вы извините меня. Я, наверное, отвлекаю.
– А что надо делать? – повторил я и улыбнулся.
Я смотрел в её очки, в её неадекватно растерянные глаза, и тут мне показалось, что она словно бы находится в каком-то бреду, ум её укутан туманом, она больна, и вообще скоро у неё начнётся лихорадка. Я не почувствовал жалости. Даже при виде нищих, калек, сирых и убогих во мне почему-то не возникает чувства жалости к ним, а только осознание жестокости этого мира. Жалость я испытываю, например, когда вижу, как сильный взрослый человек, женщина или мужчина, работающий, имеющий семью, бьющийся об эту жизнь и за эту жизнь, вдруг по какой-то причине ломается, и в этот миг видно, как он беззащитен, насколько устал. Минуты слабости сильного человека и отчаяния веселого человека – непереносимое зрелище.
Старая Мышь помялась, помялась и выдала:
Читать дальше




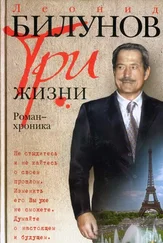

![Роман Антропов - Иван Путилин и Клуб червонных валетов [сборник]](/books/413524/roman-antropov-ivan-putilin-i-klub-chervonnyh-valet-thumb.webp)



