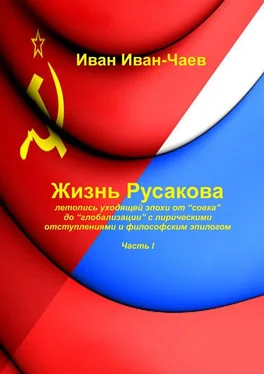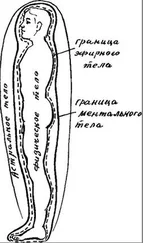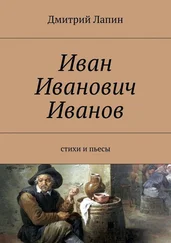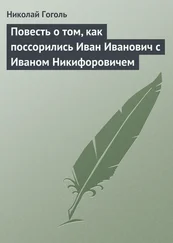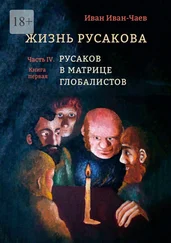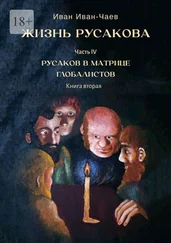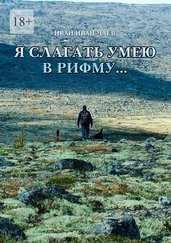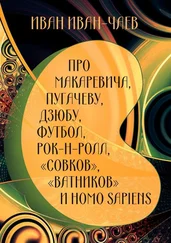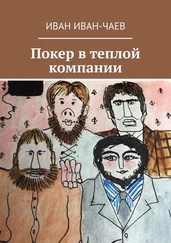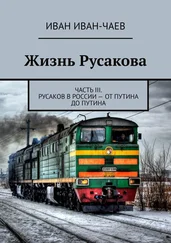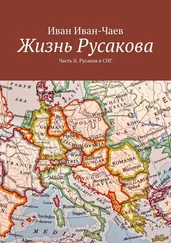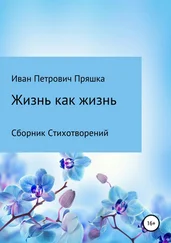По мере приближения мая заполярное сердечко Русакова начинало все чаще и трепетнее отстукивать южный ритм. Почти всегда родителям удавалось договориться, чтобы его учебный год закончился раньше, чем у остальных. А это значило, что уже в конце упомянутого мая начинался путь Русакова в лето! В самом лучшем южном городе на перроне вокзала Русакова встречала вся большая южная родня – бабушка (дед ушел, когда он был совсем маленьким), трое дядьев, маминых братьев, их жены (его тетушки) и дети – его двоюродные братья и сестры. Они играючи подхватывали чемоданы, и вся компания, когда на такси, а чаще – на общественном транспорте, ехала в самое прекрасное место на Земле – самый лучший в мире южный двор!
Двор был местом особенным. «Сталинка» в центре города, расположенная буквой П. Такой буквой П с растянутой верхней перекладиной, прямо как у футбольных ворот. Очень символично. Со стороны улицы, внутри этих самых «футбольных ворот», довольно густо и бесконтрольно росла трава, отчего все это «поле» ребята называли «полянка». Когда в первый день после сурового севера попадаешь в этот южный двор, то первым делом проносишься через «полянку», а затем на последний этаж, в бабушкину квартиру. А там – на угловой балкон, чтобы оглядеть сверху это зеленое летнее море – и «полянку», и качающие под балконом ветками огромные каштаны. И только после этого начинаешь верить, что уже окончательно и бесповоротно очутился в лете…
С летом в южном дворе связано очень много. И первый самокат, и первый велосипед (на севере тогда на них практически не катались), и разнообразные дворовые игры. Их тогда было много: в «штандер», в «казаки-разбойники», в «прятки», «в чижа», в «повара» и, конечно, в футбол! В футбол играли просто до умопомрачения. Тем более что условия были на зависть многим – практически готовое травяное поле – «полянка». Казалось, пацаны могли гонять там мяч круглосуточно. Уже усталые, валились в траву, когда в стремительно темнеющем небе начинали кружить летучие мыши. Но футбол на «полянке» по уровню был еще совсем детским. Трава была слишком густая, и «комбинировать» на ней получалось плохо. Поэтому в почете были «индивидуальные действия» и «сольные проходы». «Дальние удары» часто заканчивались плачевно – мяч либо классически разбивал оконное стекло, либо через тротуар улетал на проезжую часть. В некоторых случаях – навсегда. Так что, по мере того как «футболисты» становились старше, потребность играть на более приспособленной площадке возникала все чаще. И здесь южному двору также повезло. Если перемахнуть через дворовые сараи, ты в момент оказываешься на территории стадиона!
В первую очередь Русакова и Ко интересовало огороженное сеткой поле с грунтовым покрытием, на котором занимались воспитанники ДЮСШ местного клуба второй союзной лиги. Когда не было тренировок, доступ на площадку был свободным, и там собирались поиграть все желающие. И взрослые мужики, и пацаны со всех соседних улиц и дворов. Русаков и его друзья не были исключением. Вот здесь уже все было серьезно – и ворота настоящие, и игра, и удары. Часто с ребятами из двора Русакова погонять мячик после тренировки оставались воспитанники ДЮСШ. Здесь уже был, что называется, «уровень». Они учили мальчишек не просто «пинать мяч» и «водиться», а отдавать пасы «на ход», играть «в стенку», бить не «пыром», а «с подъема», «щечкой» или «шведой». Иной раз, если ты играл слишком слабо, тебя могли «попросить» с поля. Приходилось подтягивать мастерство. Это поле было расположено рядом с южной трибуной стадиона. После собственных игр Русаков с друзьями часто подходили сюда посмотреть результаты матчей главной краевой команды, т. к. здесь, на стенке примыкающей восточной трибуны, размещались в те годы турнирная таблица и расписание игр. И конечно же, рядом с турнирной таблицей на стадионе всегда собиралась Брехаловка.
Брехаловка в южном городе, по-видимому, ничем особо не отличалась от подобных «тусовок» в других городах. Обычно там всегда присутствовал минимальный постоянный контингент – как правило, очень разношерстный – от пенсионеров до совсем молодых ребят. По мере приближения конца рабочего дня эта компания все более обрастала людьми, и к вечеру уже набирался необходимый «кворум» в полтора-два десятка человек. В 70-е годы ХХ века краевой флагман болельщиков игрой радовал не очень часто, будучи середняком четвертой зоны второй лиги и лишь изредка пытаясь прорваться на более высокий уровень. Может быть, поэтому у Русакова сложилось впечатление, что посетители Брехаловки чаще ругали команду и руководство, чем хвалили. А уж как могут ругать южные «кагаи», это отдельная песня! Русаков отметил, что на Брехаловке, кроме игры краевой команды, весьма подробно разбирали и другие лиги чемпионата СССР, включая высшую. Если краевой клуб играл совсем плохо, то высшей лиге посвящалось гораздо больше времени. И тут уже первые скрипки играли доморощенные «спартачи», «армейцы», болелы киевского «Динамо». Но стоило только южным футболистам начать побеждать, как все внимание «брехаловцев» переключалось исключительно на родной клуб! Еще со времен Брехаловки у Русакова возник к таким «болелам» вопрос: почему они поддерживают команду, только когда она выигрывает?
Читать дальше