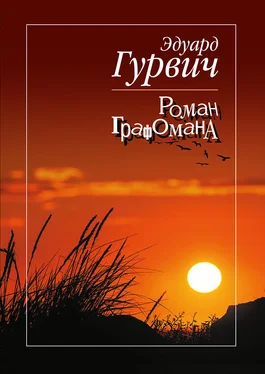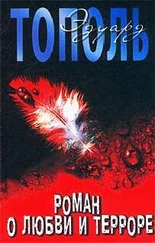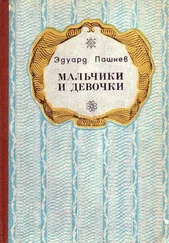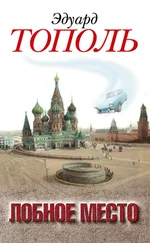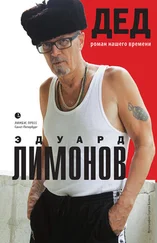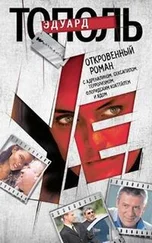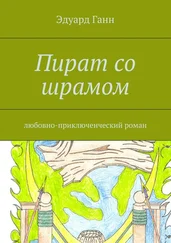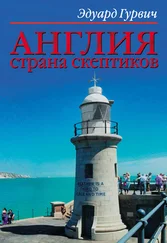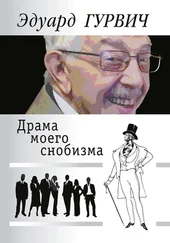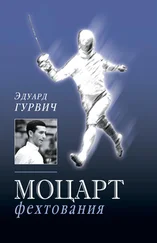– Чехов остается идолом и в Англии, – попробовал парировать я. – Иные полагают, что чрезмерная зацелованность Антона Павловича интеллигенцией есть признак нездоровья этой интеллигенции…
Об интеллигенции, впрочем, а точнее, об интеллигентщине, у меня было много чего возразить Марку. К примеру, мне гораздо ближе опыт не Чехова, а ирландца Флэнна О’Брайена. Он придумал неких «книжных мастеров», которые за небольшие деньги истрепляли книги до состояния видимой прочитанности. Жесткую трепку томам – эту услугу мастера предоставляли хозяевам прекрасных библиотек, которые приобретали книги, не читали их, но желали блистать в салонах. Кстати, этот Флэнн начудил в жизни много. За алкоголизм его уволили со службы. Но в период ли запоев или между ними он написал первый роман «О водоплавающих» (1939), где использовал излюбленный метод – роман внутри романа: его герой – безымянный повествователь, молодой дублинский студент – пишет роман об эксцентричном писателе Дермоте Треллисе, попутно описывая в натуралистических подробностях студенческую жизнь; в свою очередь, Дермот Треллис тоже пишет роман, персонажи которого скоро начинают жить своей жизнью и устраивают суд над своим творцом. Этим пассажем я, конечно, зацепил Марка.
– Спасибо, Макс, за реминисценции с Треллисом. Полезно для «Романа Графомана». Кстати, напрасно ты пробуешь прижучить меня, будто я мщу своим женщинам. Нет, конечно, никакой мести тут нет. Я их всех продолжаю любить…
– А я полагаю, Марк, тебе надо бы задуматься, с чем твой герой реально входит в «Роман Графомана». В его попытках выбраться из мастеров в гроссмейстеры, то есть в писатели, надо явиться с каким-то своим личным откровением. Что-то сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) – тоже люди. Толстой объявил, что мужики – соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители – пена, они только играют в управление. Что же делать? Бунтовать, объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек сложен. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк – мужскую дружбу… Банально, если не пошло. Прямо как у Чехова. У меня вопрос к тебе, Марк: что ты хочешь сказать своим «Романом Графомана»?
– Брось, Макс, игры культурологов с пошлостью Чехова. Я ведь понимаю, к чему ты клонишь. Неконструктивно. Исследуй художественный текст Мастера. Последнее дело – механически переносить на автора свойства героев «Дамы с собачкой», «Мертвых душ», «Душечки». Недопустимое упрощение.
– Думаю, упрощаешь ты, друг мой. Не только Аверинцев поражался непорядочности твоего Чехова. Человек, который, ходя в женихах у еврейской невесты, пишет злейший антисемитский рассказ, где разделывает и так, и эдак такую-рассякую еврейскую сексуальность, печатает, изображает удивление, что невеста с ним порывает, – другому бы это так не сошло, согласись. Но читатель и зритель «Иванова» еще должен сочувствовать герою, когда тот кричит умирающей жене: «Жидовка!» Жалко же все равно не ее, а его.
Дав Марку время переварить мои возражения, я обратил его внимание на одно меткое замечание Аверинцева: «Кто скажет сегодня про – все равно кого, хоть про Пригова, хоть про Сорокина, хоть про нас с вами: „Во дает!“»? Аверницев предложил подумать о «хасидизме» Пастернака и «миснагдимстве» [10] Миснагдим (противящийся) – использовавшийся хасидами термин относительно своих идейных противников литваков во время религиозной борьбы.
(неприятии литваков) Мандельштама.
Описание отношений между мужчиной и женщиной – проблема для всякого художника. Граница между искусством и пошлостью почти невидимая. Каноны существуют для того, чтобы их отменять, сужать, расширять, пересматривать. И аллюзии здесь в высшей степени уместны. Взять принцип – кто платит, тот ее и танцует. В журналистике – да. В сексуальных отношениях все значительно сложнее… Или такое вовсе расхожее мнение, будто русская литература поэтизирует незавершенность отношений. Недосказанности в чеховских пьесах считались достоинством. Тургеневские герои говорят, что уходят, – и не уходят, чеховские – мучаются, что вынуждены скрываться и быть любовниками, толстовские – не могут развестись и бросаются под поезд. Но вот иностранному читателю ожидания разрешения конфликтов кажутся заданными и малоубедительными. Англичане, французы, немцы принимают незавершенность конфликтов и в жизни, и в искусстве не как трагедию или драму, а как жизненную норму. Никому в голову не приходит подправлять биографии.
Читать дальше