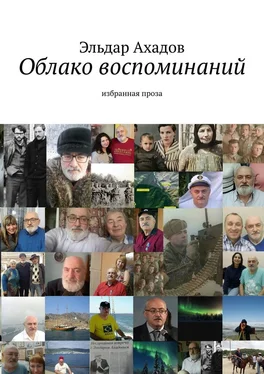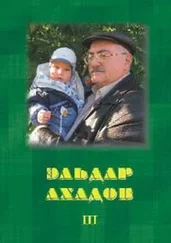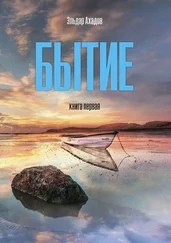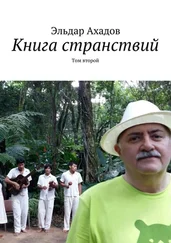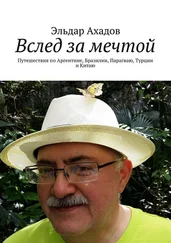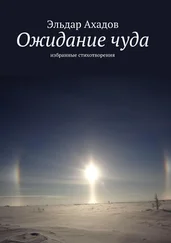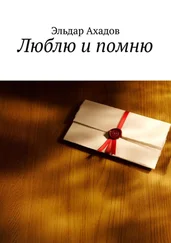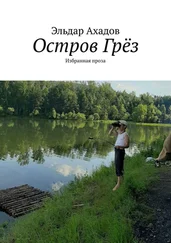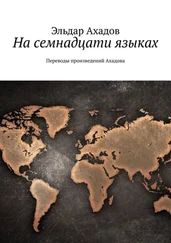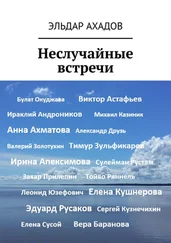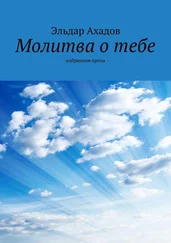Я любил фильмы про войну, такие, как «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Подвиг разведчика», «Два бойца», «Жди меня» и другие. Тогда было много хороших фильмов, в том числе, и документальных. Вместе с нами их смотрела мама. Однажды я заметил, что в определённые моменты просмотра она вдруг исчезает из комнаты. Поскольку это повторялось постоянно, я обратил внимание на эти моменты из фильмов. Они были разными, но общим в них было одно: с жутким воем пикирующие немецкие бомбардировщики. Как только возникал этот звук, иногда даже без показа самих самолётов, мама буквально испарялась из помещения. Долгое время это оставалось загадкой для меня.
…Когда началась война, моя мама была пятилетним ребёнком и ни в каких сражениях, естественно, не участвовала. Но она, как и её старшие сёстры и моя бабушка, оказалась тогда в особом месте – в блокадном Ленинграде. В её детской памяти запечатлелись от той войны на всю оставшуюся жизнь два момента: ощущение вечного, непрекращающегося голода и этот невообразимо страшный вой пикирующих самолётов.
Много раз она пыталась рассказать об этом и не могла, потому что вспоминать было невыносимо.
В сорок втором году семью мамы эвакуировали. Во время переправы через Ладожское озеро их в упор расстреливали с самолётов. Представьте себе: маленькая, худенькая русоволосая девочка с большими глазами, какой я видел её на единственной сохранившейся довоенной ленинградской фотографии, и огромные, пикирующие на неё с воем и стрельбой, фашистские самолёты. Каково было этому ребёнку? Какой безумный ужас пережила её детская душа в те мгновения? С чем это сравнить? Не знаю. Не с чем. Мама помнит, как моя бабушка обняла плачущих дочек, накрыла их собой и начала молиться о том, чтобы их убили вместе, чтобы не оставляли страдать никого…
Прошло много лет. Очень много. Моя старенькая мама ещё жива. Но всякий раз, когда где-нибудь случайно она слышит тот самый знакомый ужасный звук, она прячется. Да, прячется ото всех, и нужно бежать скорее за ней, найти, обнять и сказать тому плачущему ребёнку с морщинистыми старческими руками: «Мама! Война кончилась, мама! Кончилась война…»
Однажды мои стихи спасли меня от рабства, а, может быть, и сохранили жизнь… Это было очень давно, в предгорьях Памира, в Таджикистане, где только что отгремела гражданская война. Я случайно оказался в руках вооружённых моджахедов, собиравшихся перейти реку Пяндж и доставить контрабандные товары в Афганистан. Они чрезвычайно обрадовались своей удаче в моём лице.
Их переводчик объяснил мне, что меня собираются завернуть в ковёр и перевезти через Московскую погранзаставу на реке Пяндж, чтобы выгодно продать в рабство в Кандагаре. Что я мог? Ничего. От безысходности и отчаяния я начал читать свои стихи. На русском, разумеется. Конечно, они, кроме переводчика, не понимали ни слова. Но догадались, что это не обычная речь. Переводчик спросил меня чьи это стихи, и я ответил, что мои. Следом всё вдруг изменилось в их поведении. Меня в итоге отпустили, да не просто отпустили, а прежде того расстелили передо мной дастархан (подобие скатерти-самобранки, расстилаемой на полу) с пловом, чаем и восточными яствами. И проводили, как уважаемого человека, до того дома, где я перед этим находился…
Долгое, очень долгое время я не мог ни понять, ни объяснить себе столь странного изменения в поведении моих «тюремщиков». Пока не обнаружил аналогичного случая, изучая историю жизни Лермонтова на Кавказе. Говорят, на Востоке, в горах, легенды живут долго. Гораздо дольше людей. Всем известно, что Лермонтова сослали на Кавказ за правдивые, обжигающие душу строки стихов о смерти Пушкина. Его отправили на войну с горцами, надеясь, что живым с войны он уже не вернётся. И Лермонтов тоже понимал, для чего его отправляют. Но он был не из тех, кто кланяется пулям в бою или прячется за спины солдат, он и в сражении оставался самим собой, втайне полагая, что однажды его действительно убьёт меткий противник. Может быть, поэтому у него – столько печальных стихов о неизбежной смерти в бою. Лермонтов был фаталистом.
Перед боем он надевал красную рубашку и, как фаталист, искал смерти. Но каким-то образом горцам заранее стало известно, кто перед ними. Врага на Востоке ненавидят, но поэтов чтят за их живое слово, за голос народа, звучащий в их голосах, чтят в особенности тех, кто пострадал за правду. Лермонтов бросался в самую гущу боя и, конечно, не подозревал, что в это самое время командиры горских отрядов кричали своим стрелкам: «Видите вон того русского офицера в ярко-красной рубахе? Того, кто впереди, на виду? Не стреляйте в него. Это – поэт!» «Харам!» кричали они своим бойцам и те намеренно стреляли мимо Лермонтова. «Харам» – означает «табу», запрет, смертный грех перед Богом. В представлении горцев Лермонтов был ашугом, так называли на Кавказе странствующих поэтов и менестрелей. Ни одна пуля так и не задела Михаила Юрьевича ни в одном сражении, ни в одной стычке. Поэтов на Востоке не убивают, даже во время войны. Этот мудрый восточный обычай, вероятно, сохранился до нашего времени у некоторых афганских племён: ни при каких обстоятельствах нельзя трогать дервишей и поэтов, ибо Аллах накажет. Именно это правило и спасло меня при встрече с отрядом моджахедов. Поэтов трогать нельзя. Харам!
Читать дальше