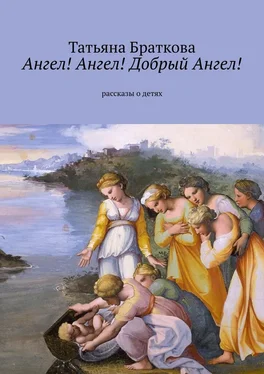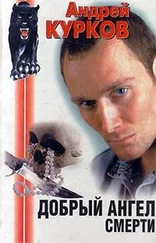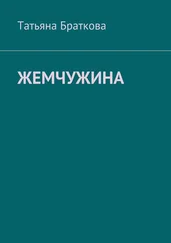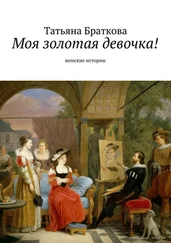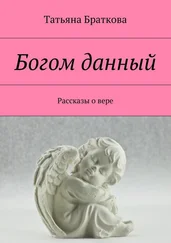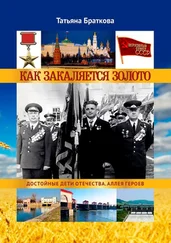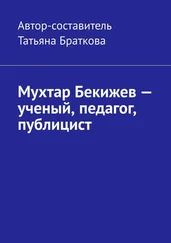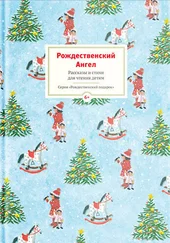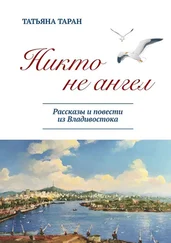Великий критик Виссарион Белинский писал: «Дети – гости настоящего и хозяева будущего». Позвольте добавить к сказанному: «Если взрослые не обрезают детям крылья веры».
Про маленького Кузю и
про обретение взрослыми потерянного рая
«Блажен, кто вкусит вечерю во Царствии Твоем,
но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства.
Сколько раз Ты простирал мне Божественной десницей
Тело и кровь Твои, и я, многогрешный, принимал
эту святыню и чувствовал Твою любовь,
несказанную сверхъестественную.
Слава Тебе за непостижимую силу благодати;
Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою
как тихое пристанище измученному миру.
Акафист благодарственный «СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ»
Митрополит ТРИФОН
Кузя плачет!
– Кто же из детей не плачет? Стоит ли говорить об этом? – скажете Вы мне.
И будете правы: все дети плачут.
Но плач Кузи это – особенный случай. Малыш плачет в древнем храме. Плач Кузи, словно восклицательный знак среди безверия, несправедливости, нелюбви, к которым все привыкли, и к которым не могут привыкнуть дети. И поэтому Кузю, плачущего на ступеньках в алтарь на фоне ликов святых и горящих свечей, я воспринимаю как маленького священника, а его плач – и предупреждение, и проповедь одновременно.
Чувство эмпатии у меня было развито с детских лет: «Плакала со всеми плачущими и радовалась со всеми радующимися».
С раннего детства усвоила правило:
«Если плачет кто-то рядом,
Если слезы льются градом,
Подойдите вы к нему
и спросите: «Почему?»
Это, дети, сделать надо.
Трудно плакать одному».
Но особенно больно было всегда, когда плакали дети. Однажды написала:
На щечке розовой ребенка
Блестит росинкою слеза.
Заволокло печальной
Пленкой его огромные глаза.
Несправедливо в мире, значит,
Если душа ребенка плачет.
Чтобы понять, почему плачет малыш в храме у алтаря, надо знать, кто такой Кузя.
Архимандрит Виктор (Мамонтов) говорил, что ребенок, который рождается в любой семье, как ни странно это звучит, в первую очередь, сын Божий, а во вторую очередь, сын человеческий. Кузя родился в семье священника, где любовь родителей к Богу и ближнему лежит в основе бытия. Поэтому Кузя, словно живой индикатор среды: если окружающая среда наполнена миром и любовью, Кузя спокоен, если нет любви – плачет. Особенно ярко это проявляется в храме. Храм – его любимое место, можно сказать – дом родной. Утром он приходит в храм и «летает» по храму от подсвечника к подсвечнику, от иконы к иконе. Но вот появляются прихожане. Малыш «летает» ближе к алтарю, а перед началом службы ложится на ступеньки у алтаря. Малышу неважно, что ступеньки холодные, его душе здесь спокойно. Папа молится в алтаре, мама поет в хоре. Вместе со словами молитв душа поднимается высоко – высоко, так высоко, что холодные ступеньки, словно облачко в небе, на котором сердцу Кузи, привыкшему с утробы матери к молитве и церковному песнопению, светло и радостно. Здесь малыш осознает всем своим существом, что высшее проявление человеческого слова – молитва. Место, где она совершается, имеет особую атмосферу, особую чистоту. Для христианина храм – духовный дом, а вечное жилище – Царство Небесное. Кузя не может объяснить нам, взрослым, почему его маленькое сердце наполняется такой неизреченной радостью во время службы. В звуках молитв и песнопений, отражающих Фаворский свет, освящаемся и мы, и наша жизнь. Кузя не может объяснить, но всем своим поведением показывает свое отношение к Творцу: «Пока мы не знаем Отца, не знаем, что Бог есть Любовь, есть Жизнь, жизни у нас не будет».
Но «…не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». (Евангелие от Марка 6,4)
Мы, взрослые, часто не понимаем значения церковной поэзии.
«Церковная поэзия – это особая поэзия, – говорит архимандрит Рафаил. – Неверующему человеку эта поэзия чужда, она не вызывает отголосков в его душе, он слушая, не слышит ее. Но проходит время, и эти песнопения становятся для его души более родными. Как будто все чаще пробивается свет через разводье облаков. Хотя он еще не включился в литургические песнопения на уровне сознания, но его душа чувствует новую жизнь в этих пока не совсем понятных словах, и по временам она наполняется особенным чувством умиления и радости, той чистой радости, которую мы испытывали когда —то в далеком детстве».
Читать дальше