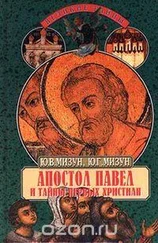Он вернулся на скамью, закрыл глаза и не сразу открыл их, когда услышал скрип двери и шаги Ларисы. Из парилки его обдало жаркой сыростью, и глаза разлипли сами. Лариса подошла к умывальнику, открыла воду. Простыня развернулась, обнажив гладкие складки жира на боках. Талия была шире попы. Поясница не отделяла мышц спины от ягодичных.
– Извини, – сказала она, медленно запахиваясь. – Это я не соблазняю. Тебя таким не соблазнишь. Небось, только молодых водишь?
– Брось ты.
– Молодых, по тебе вижу.
Сергею почудилась в ее словах ревность. Он заволновался, встал, хотел подойти к ней. Взглянул на спящего Вадика и опять плюхнулся на скамью.
– Спасибо тебе, – сказал он.
– За что?
Не было в ее вопросе удивления. Он видел, что годы изуродовали ее тело и, как ластиком, стерли с ее души все эмоции. Но еще он видел, что мыло выскальзывало из ее рук, она не могла поймать скользкий брусок в раковине.
– Как в той песне… помнишь? «За то, что со мной была…»
– Пой, пой! С кем я только не была, ты знаешь…
– Это другое… Нет, за то, что со мной…
– Не другое. У тебя жены нет?
– Нет.
– Не было?
– Было три.
– Ну, это то же самое, что ни одной. А ты говоришь – другое. Не за что меня благодарить. Я тебе жизнь изуродовала. Слишком влюбила в себя, чтоб ты мог все то пережить. Не меня Мопа изнасиловал, тебя. Насилуют влюбленных мужиков, я-то… – Поглядывая на дремлющего Вадика, она частила, торопилась говорить. – Я с музыкальной школы знала, что Вадику достанусь. Только тем летом что-то… померещилось. Ты же своих малолеток не любишь и не любил никогда. Сломала я у тебя любилку, – торопясь говорить, иногда она все же замолкала, а потом продолжала, но все тише и тише. – Хотела, чтоб она была только для меня. Так и получилось – она со мной осталась. Детей нарожала кучу… Если подумать, так это твои дети. Твоя любилка была, когда глаза закрывала.
– Ты себе все надумала.
– Даже если надумала, что с того? Какая разница?
– А любови у меня были.
– Разве то любови? Вспомни, у тебя каждый мускул играл и звенел, когда ты смотрел на меня. А сейчас у тебя разве мускулы? Мяско…
И все-таки… Он шел по заметенной снегом тропинке вдоль Дублянки. Снежинки кружились вокруг него, как белые мошки. Тогда, на речке, мошек тоже была плотная туча, и они отлетали, по каплям воруя юность. Он обернулся на дом Ларисы. В окне мелькала тень. Наверное, Лариса стелила постель, стряхивая простыни.
«И все-таки почему мне так истово захотелось тебя благодарить? Потому что за юность, в которой были ярость и любовь, кого еще благодарить? Потому что с тобой я ощутил настоящую остроту и подлинность жизни».
Он споткнулся и остановился. Показалось, что споткнулся о дохлого гусенка на том же месте, что и сорок лет назад. Нет, это был просто снежный ком с темными слоями льда.
«Хорошо помню, как ты – тонкая, ясноглазая, влюбленная – прошла навстречу мне по крашенному коричневой краской полу, и шлепки прилипающих голых пяток напоминали шлепанье натянутой и отпущенной резинки. Прошла и исчезла – я такой тебя уже не видел, да и не была ты больше такой никогда. Всего лишь прошла навстречу несколько шагов, а оказалось – прошла по судьбе».
На экране мелькали известные мужчины в элегантных костюмах рядом с красивыми, нарядными, накрашенными женщинами. Вечерние платья были с глубокими декольте. Декольте казались темными омутами с русалочьими водоворотами. Изображение часто кривилось. Телевизор стоял в ленинской комнате. Показывали Большой театр. Бурмистров подходил к телевизору и бил его ладонью по боковой стенке. Лак на стенке был поцарапан и истерт.
Сергей Шевцов оглядел офицеров запаса, которые были рядом: один по пояс голый, другой в домашнем вязанном жилете поверх казенного белья, третий босой и в кителе, – все эти люди были грязными и голодными, и одежда на них была не по росту, и сидели они на тяжелых табуретках с прорезанными дырами в сиденьях – газоотводами… Вот жилистый, маленький и старый Бурмистров – инженер по телекоммуникациям, вот непомерно упитанный Заболоцкий – учитель физики, вот Варин – экскурсовод на ВДНХ, вот сам Сергей – историк – ни их личности, ни их профессии здесь не имели никакого значения. Для прохождения сборов они были изъяты из оборота жизни и спрессованы в один субстрат. В телевизоре – парадный, аккуратный мир, а в ленинской комнате на всех лицах – тоскливая надежда, что все это скоро кончится и где-то их ждет вот такая же – как в телевизоре – чистая жизнь с нематерящимися женщинами, с золотым искристым вином, с тонкими удовольствиями – от балета, чистых голосов, картин, споров, не сальных шуток.
Читать дальше