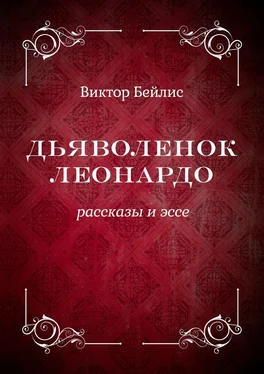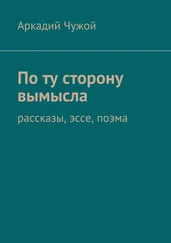– Погоди, я помогу тебе прибрать со стола, – предложил я.
– Ничего убирать не надо, – ответила она, решительным движением сдвигая посуду и садясь на освободившееся на столе место.
Короче, в тот раз это было на столе, и она заставила меня забыть обо всем, обо всем, что было, главное обо всем, что было сегодня: о моей дикой пробежке, о руке Андрея на ее попе и т. д.
– Као маче, – пробормотала она, слезая со стола.
Так бывало много раз. На месте Андрея мог оказаться Дима, на моем – Андрей. Но меня никто не увольнял, и сам я не в состоянии был вычеркнуть себя из списка.
– Как Гинзбург, – думал я про себя, испытывая невольную симпатию по отношению к рогатому мужу и забывая порой, что своими рогами несчастный обязан в частности и мне.
По счастью, в годы о которых я вспоминаю, я умел смотреть по сторонам и вскорости высмотрел Наденьку – крохотную, беленькую, с зелеными глазами, курносую – чудо как хороша: трогательная, доверчивая и верная. С нею я, пусть и не сразу, отказался от встреч с Эммой, хотя, когда я случайно встречался с Гинзбургом, он настойчиво приглашал меня заходить. Как мне потом кто-то объяснил, Гинзбург именно обо мне почему-то думал, что я для Эммы – всего лишь интересный собеседник. Не знаю, льстит ли мне такое мнение или оно унизительно для моего мужского достоинства. Впрочем, не мне рассуждать в связи с Гинзбургом об оскорблении мужского достоинства. Я рассказываю не о нем и не о бедной Наденьке (ох, это грустная история, да простит мне Бог!), а об Эмме.
Я перестал о ней думать и даже раздражался, если кто-то пытался мне каким-либо образом напомнить о ней. Я, впрочем, знал, что она долго болела, что родила девочку, которая долго не прожила, что врачи посоветовали ей сменить климат, и она решила не наездами выбираться на юг, а поселиться там навсегда, для чего по еврейской линии мужа эмигрировала, как все в это время, в Израиль. Гинзбурги позвонили мне и пригласили на проводы, я неохотно согласился – все еще был зол на Эмму. Правда, злость моя прошла, когда я увидел ее, непривычно грустную, даже заплаканную, больную. Она взяла меня за руку, привела в комнату, куда гостей не приглашали; она сквозь слезы неотрывно глядела мне в глаза и твердила: «Приезжай, приезжай, приезжай. Все будет хорошо, да? Ну приезжай – я буду только твоя». Я молчал. Тогда она попросила: «Поцелуй меня». Я повиновался. Она безвольно обвисла в моих объятиях и лишь приняла поцелуй, не ответив на него. Но тихо пообещала: «Поцелуй за мной». Я вышел из комнаты и вскоре покинул дом Гинзбургов – навсегда.
Некоторое время до меня еще доходили какие-то слухи о ней, о том, что до Израиля она не доехала, закрепившись каким-то образом в Италии, что развелась с Гинзбургом, который поначалу очень горевал, но потом связался с одной довольно красивой путаной. Затем слухи заглохли, и мне не хотелось выспрашивать тех, кто мог о ней что-либо знать. Так до сих пор ничего и не слышал о ней…
Я очнулся, когда у входной двери прозвучали голоса вернувшихся Акки и Лены.
– Как, ты до сих пор не подымался?
– Я подымался не один раз, при этом не всегда с постели.
– А где же еще ты валялся?
– Посмотрите на кухонном полу: там должна бы остаться вмятина.
– Ты что, упал? – сильно занервничала Лена.
– Да, споткнулся обо что-то, – соврал я к явному удовольствию слушавшего нас Васьки.
– Но ты успел что-нибудь поесть? – продолжала заботиться жена.
– Да, я нашел сосиски, – успокоил я ее.
– Друг мой, – сказала Акка, – ты в состоянии встать? У меня есть на тебя кой-какие виды. Можешь подойти к компьютеру?
Кряхтя, я вылез из постели и пошел за Аккой в ее комнату.
– Сейчас я покажу тебе один текст, который мне нужно перевести и в котором я не все понимаю. Вот, смотри… Э, любезный друг, куда ты смотришь?
Я действительно смотрел не на монитор, а на фотографию, висевшую над ним на стене. Там была Эмма Гинзбург, какой я не знал – с сединой в черных волосах и в довольно коротком платье – вся повадка какая-то другая, мне незнакомая. Она отличалась и от той, что я видел сегодня. Фотография была снята явно в этой самой квартире.
– А, это ты любуешься Эммкой Ризнич. Ты был с ней знаком?
Пока я думал, что мне отвечать, Акка неожиданно продолжила:
– Као маче?
Я вздрогнул.
– А-а, – довольно протянула Акка, – ты был с ней близко знаком.
– Ты сказала: Ризнич. Это что за имя?
– Как, ты ее хорошо знал и никогда не слышал этого слова?
– Это имя я знаю только из пушкиноведческой литературы, но почему ты так называешь Эмму?
Читать дальше