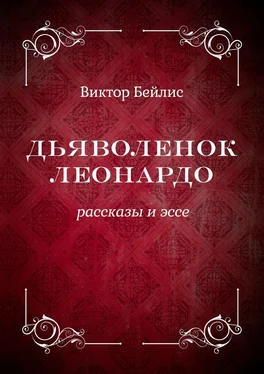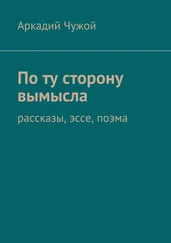Здесь повсюду было чисто, и даже следов пыли не было видно, хотя и человеческое присутствие никак не проявлялось. Пустой дом обычно вызывает чувство печали, а тут, несмотря на голые стены, было почти уютно. По крепкой лестнице я взобрался на второй этаж и ахнул: прямо напротив меня стоял рояль! Я открыл клавиатуру; справа лежал женский носовой платок. Я осторожно взял его и встряхнул. На нем были вышиты инициалы: M.M. Подобно мотыльку из него выпорхнула желтенькая бумажка, подняв которую, я разобрал, поднеся к свету, единственное слово: Addio. Неужели же никто до моего прихода не выказывал никакого любопытства? Я продолжил свои исследования и полностью раскрыл инструмент, как если бы собирался играть перед полным собранием. Подпирая крышку рояля, я нагнулся, чтобы разобрать надписи на деке, и тут мне в глаза что-то сверкнуло. На одном из колков я нашел перстень с камнем, цвет которого я установить затруднился, потому что, подставленный к несильному источнику света, он заискрился сразу всеми цветами, и я почему-то сразу подумал, что это опал.
Что-то подсказывало мне, что оставаться здесь больше не следует. Я завернул перстень в найденный мною платок, закрыл рояль, не прикоснувшись к клавишам, и пошел прочь. Внизу я отпрянул от собственного профиля, так и висевшего посреди комнаты между полом и потолком.
Я выбрался на дорогу, и там совершенно случайно меня подобрал какой-то смуглый сицилиец на раздолбанном «Фиате», который молча, без попыток вступить со мной в разговор довез меня до Таормины. Выходя из автомобиля, я попытался найти итальянские слова, чтобы выразить благодарность водителю, но, взглянув на его лицо, понял, что он не слушает меня, потому что его глаза медленно наполнялись тем же светом, который вползал через жалюзи в брошенный дом. Тогда я коротко попрощался, но он и тут не ответил.
– Addio , – сказал я еле слышно.
Он очнулся при этом слове и, что-то пробормотав в ответ, резко нажал на газ.
Я подошел к тому месту в Таормине, где фуникулер начинает свой спуск к морю, к Isola Bella .
Море смотрело на меня. И горы смотрели на меня. Castello Molo смотрел на меня. И море уплывало от меня. И горы отодвигались от меня. И деревья махали мне ветками. Все уходили от меня. Я стоял один – спокойный и один, а они теряли цвет, размеры, объемы, формы, приличия, правила, законы, привязанности. Они выходили из себя, волновались, совершали ошибки, а я был равнодушен, и один, и непогрешим.
Я еще хотел было что-то сказать, но передумал, потому что я…
12.05.06.
Souvenir de Florence,
или Кое-что о жанре мемуаристики
Во Флоренции я гостил в русском доме, у Галины Х. По-итальянски начальная буква ее фамилии не произносится, и она всегда, называя свое имя, добавляет: «Кон прима леттера акка» (то есть инициалия – латинское «Н»), – иначе ни в каком компьютере не найдут. Так я и стану называть ее: «Акка». Я много знал о ней понаслышке – от друзей, из бесчисленных мемуаров о Бродском, где можно почерпнуть детали ее биографии и замужеств, а также из книг о знаменитых русских во Флоренции, где она упоминается в связи с чудесной флорентийкой русского происхождения, оставившей Акке в наследство свои квартиру и фамилию.
Мы сразу же понравились друг другу, о чем немедленно и громко оповестили всех, кто был рядом, – нам показалось (и справедливо), что мы можем обсуждать все что угодно без какого-либо изъятия, как если бы в предыдущей жизни, в том числе и на территории Советского Союза, где мы, впрочем, проживали в разных городах, мы уже затронули все темы, и нам нужно лишь досказать что-то, пусть и очень важное, но к моменту последнего (хотя, по-настоящему, первого) разговора ни для кого из нас не новое.
Помимо достопримечательностей квартиры – дивного узорчатого мраморного пола (почему-то с могендовидом, – вероятно, первым хозяином дома был еврейский негоциант), любопытных картин и фотографий на стенах (от академика Сахарова до каких-то мне не известных, но симпатичных бородачей-шестидесятников), многоязычной библиотеки, – здесь можно было насладиться обществом двух котов, проживающих вместе с Аккой и ничего против нее не имеющих, поскольку она никогда не покушалась на их свободу, но не всегда разделяющих ее доброжелательность по отношению к гостям. Коты Вася и Ваня (имена, по понятным причинам, я изменил), обладающие совершенно разными характерами, считали, что все радости жизни они уже испытали и ничего экстраординарного в грядущем не ожидали, полагая, что надо теперь лишь достойно встретить неизбежное и, главное, не потерять независимости. Никакой особой мудростью они не обладали, порою вели себя, как последние эгоисты, и застенчивости никогда не выказывали. О своем здоровье они заботились, выполняя упражнения утренней гимнастики неодинаковой трудности: Ваня явно щадил себя и часов в десять приходил слегка поободрать обшивку дивана, на котором я спал, Вася же в восемь утра врывался в мою комнату, чтобы как следует поточить когти об антикварную мебель. Враждебности по отношению ко мне коты не испытывали, но рассчитывать на их дружбу не приходилось, и они не упускали случая, чтобы сделать мне то или иное критическое замечание, а то и выговор за какой-нибудь faux pas, и я всякий раз вынужден был признать реприманд справедливым и поспешно обещал исправиться, чему они никогда не верили, ни в грош не ставя нравственные способности человеческой породы вообще и моей персоны в частности. С моей женой отношения у котов были проще: они, в зависимости от настроения, принимали или не принимали ее ласки, обходясь без нравоучений.
Читать дальше