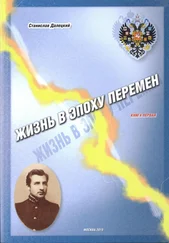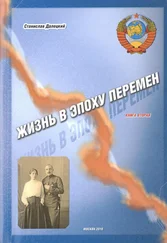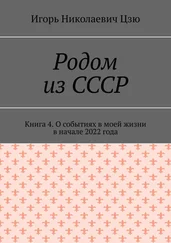Слушал «Трубадура» и невольно сравнивал. В европейской опере всегда личные драмы и судьбы. У нас – грандиозные фрески народной жизни, торжество хоровой стихии. И здесь Русь неповторима, особняком, запредельна. А как распевается слово – уму непостижимо. Нет, мессианством не грешу, это же факт: одна Россия в позапрошлом веке стала вровень с целой Европой.
Чайковский рассказал о себе так, как никто другой. В 68-м, в Ростове, мы с Сашей на летней эстраде слушали «Зимние грезы». Перед исполнением он спросил: «А знаешь, что говорят о Чайковском?» Я тогда был совсем наивный и горячо возразил: «Вздор, послушай и сам убедишься». Он слушал впервые. Началось Адажио, мягко и пленительно запел гобой. Саша положил свою руку на мою, крепко сжал и выпрямился. После концерта он сконфуженно признался: «Ты прав, это сплетни». Какой рывок от прозрачной мечтательности и ожидания «Зимних грез» до сознательного прощания с миром в Шестой. Более полного и исчерпывающего ответа нет и быть не может: устремляться, надеяться, срываться и пасть, так и не взлетев до его упоительного Анданте.
Просидел неделю за нотами Литургии Чайковского. Глубинная неочевидная красота, извлекаемая постепенно от звука к звуку, от хора к хору. Выслушают, прослезятся, почистят душу и вернутся каждый к своему корыту. Жаль не людей – искусства, его кратковременной и бессильной власти.
Могучий животворный Бетховен. Он всегда требует участия, мобилизации сил. У него остановка, чтобы сосредоточиться перед броском; мечтательная отрешенность, чтобы накопить энергию для борьбы. А победа или поражение – это не выбирают. Это эпилог, в любом случае заслуженный и выстраданный. Анданте 4 концерта – выражение самой затаенной, хрупкой, стыдливой части души, то, что долго сопротивляется, прячется от когтистых лап потребы. Уже осталось одно невесомо-призрачное колыхание, но пока теплый пар туманит зеркало – человек жив.
Шнитке целиком перенес Пер Гюнта в наш век, его музыка выходит из берегов – расплавленное стекло, раскаленная лава, стирающая все на пути в бездну, даже песчинки. Сидел в холодном поту, пригвожденный и онемевший, вплоть до истерзанных, едва живых скрипок после урагана – слабый намек на мелодию, вернее – тень ее. Прямая перекличка с Шестой, но там личная трагедия, здесь – трагедия человечества. Куда дальше, если 19-летний матрос на атомной подлодке расстреливает спящих только потому, что «так решил», а садист организует детдом, чтобы мучить детей. Это уже не частности, не жалкий де Сад, «украсивший» собою целый век. Это конвейер, такой же привычный и обычный, как телеящики, компьютеры, реакторы, роботы, спутники… Перестали негодовать, рыдать, проклинать – вот что страшно, безропотно подчинились тому джину, которого выпустили из собственных недр в погоне за мнимым могуществом и комфортом.
Концерт Крамера – событие высшего порядка. Показал настоящий джаз – импульсивный, воспламеняющий, взмывающий и падающий орбитами электронов. Это было что-то невообразимое: вулкан, гейзер, кипящая кровь. Зал ходил ходуном, а маэстро, в отличие от классических исполнителей, надо обязательно слушать и видеть. Он не играл, он выхватывал из себя звуковую и ритмическую энергию и бросал на жалкие клавиши. Отметил отчётливость, чистоту исполнения: поданы и открыты каждый звук, аккорд, фраза, тема. А ведь так легко было смазать и затушевать. Великолепный урок для преподавателей и ораторов: слушай, вникай, перенимай, как следует держать и развивать ведущие идеи и понятия.
«Появились композиторы, которые, руководствуясь какими-то техническими догмами, я сказал бы – фашистскими началами, – лишили современную музыку мелодии. То, что рождается не от сердца, а от ума, меня абсолютно не интересует». Плассон высказался резко, но справедливо. Фашизм не отрекается от культуры – он выхолащивает её, вводит порядок, не допускающий исключений. Бегство от мелодии – свидетельство творческого бессилия, печать машинной эпохи. Но разве мелодия – излияние одного сердца, чувства? Самый простенький мотив, хоть «Во саду ли, в огороде», – это образ, чеканная мысль, признание. Что остаётся в памяти от необъятного «Тристана»? Насыщенный пламенеющий оркестр и клокочущая непобедимая тема любви-страсти – она-то и скрепляет беспредельную звуковую массу. Таривердиев оставил, между прочим, монооперу «Ожидание» – исповедь одинокой женщины. Слушается с нарастающим интересом. гибкий и разнообразный речитатив с неповторимой интонацией обладает главным достоинством: он напевен и продолжает русскую классическую традицию.
Читать дальше