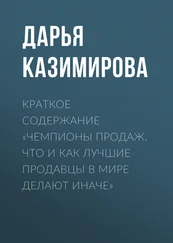С королевой Сесилией случился удар.
Свеча, что стояла прямо у головы её матери, казалось, вот-вот плюнет огнём в потолок, чьи низкие своды как-бы намекали на то, что каждый вошедший в эту комнату должен оставить гордость позади, там, за порогом.
Её мать лежала в широкой кровати и, казалось, безмятежно спала; но на лицах её сыновей, братьев Ингрит, то и дело пробегала рябь – та, что тревожит озеро, что очень хочет – которому очень нужно – казаться спокойным.
Ингрит стояла справа, касаясь руки младшего брата Теодора, в семье которого называли Тэдди, на что он, с высоты своей добродетели, смотрел снисходительно; ему было пятнадцать, и он умел всё, чему никогда не стали бы обучать Ингрит; она была единственной девочкой в семье, и у неё было совсем другое предназначение.
Средний брат, Август, стоял левее от Тэдди, и старался как можно добрее улыбнуться каждому, кто хлопотал у постели его матери. Он сам изучал науку врачевания, но к королеве его не подпускали; потому он только внимательно следил за тем, как лекари оказывали его матери помощь, и, видя правильность их действий, своей улыбкой подбадривал их.
За королеву боялись все.
Старший сын королевы Сесилии, Эдвард, мог участвовать во всём, что происходило в данный момент в спальне его матери; он старался проконтролировать всё, проследить за всем и, по возможности, помочь.
Ему было двадцать девять лет, но он любил мать так, как любить может только ребёнок; однако это не мешало ему быть достойным молодым человеком – и не могло помешать; любовь, которая любовью является, не может помешать человеку быть тем, кем он должен быть.
Любви же Эдварда к своей матери можно было только позавидовать; человек, который может любить так искренно, так бескорыстно и так открыто, как любят дети, способен справиться с любой неприятностью – потому что ничто не придаёт столько сил, сколькими делиться с людьми, открытыми душой, добродетель, что старшей сестрой любви является.
Ингрит любила братьев; каждый из них был ей дорог вдвойне потому, что унаследовал лучшие качества матери своей; Ингрит же была способна злиться, таить обиду и подозревать окружающих в чём-либо нехорошем; вот и сейчас она не отпускала себя от мысли о том, что все лекари, что так хлопочут у постели её матери, думают вовсе не о её выздоровлении – а гораздо дальше…
Ингрит мысленно тут же отругала себя; и в том была другая, присущая в её семье только ей черта – она смела повышать голос; даже на себя, даже в мыслях – но нарушала тем самым порядок мышления и всей жизни, что уложила её мать.
Ингрит считала себя плохой дочерью.
Но не считала плохим человеком, человеком неправильным – потому что, возможно, то немногое, что она впитала с молоком матери, это то, что нельзя допускать сомнения в своё сердце об имени своём изначальном – никогда, ни за что.
Природа наша изначальная соткана из любви и добродетели; и недопустимо сомневаться в ней – иначе откроем мы путь к своему сердцу тому, что сокрыто за обратной стороной Оранжевой планеты; тому, что превращает людей в тех, кто точит лезвие не за тем, чтобы любоваться отблесками колец светила единственного этой земли на серебристой глади его.
Ингрит посмотрела на Тэдди – он старался быть невозмутимым, но глаза его выдавали тревогу; девушка взяла его за руку, почувствовала тепло его ладони и немного успокоилась сама.
Седая борода главного лекаря коснулась головы её матери как раз в тот момент, когда дыхание её на миг прервалось; это заметила только Ингрит – главный лекарь был настолько стар, что был дряхл, и потому не увидел, что королева на миг… предалась забвению?
Ингрит хотела было сказать об этом брату Эдварду, но тотчас же дыхание их матери выровнялось, и единственная дочь Сесилии промолчала; ей стало жаль братьев, жаль старого лекаря и всех, кто, возможно, любил королеву.
Ингрит посмотрела на её лицо: красивые, тонкие черты и моложавый вид для сорока девяти лет составляли образ вечно молодой доброй волшебницы; но Ингрит знала, что это всего лишь миф – тот, что говорит, что у добрых волшебников со старостью расходятся дороги, что старость не приходит как награда тому, кто творил добро, посвятив этому свою молодость.
Но сейчас Ингрит видела, как высока была награда её матери за все совершённые ею добрые дела.
Выходя из спальни своей матери, Эдвард ещё около часа терпеливо ждал старого лекаря у дверей; во все подробности состояния здоровья королевы Сесилии не посвящали даже его, однако он крепко решил это исправить, мысленно попросив прощения перед всеми добрыми волшебниками за своё любопытство – но можно ли было назвать интерес сына к состоянию здоровья его матери любопытством?
Читать дальше




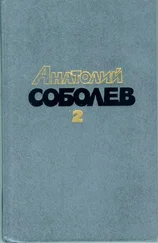
![Ларри Нивен - Мир-Кольцо. Строители Мира-Кольца [сборник, litres]](/books/421776/larri-niven-mir-kolco-stroiteli-mira-thumb.webp)