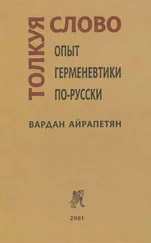– Мотай давай, дура, а то ляжешь рядом, и сынок твой ляжет, – прошипел, пеня рот, «цыган», потрясая окровавленным ножом.
Мама запричитала: «Вай-вай-вай!» – и, взяв меня под руку, рванула к дому. Я обернулся. Цыган склонился над раненым и произвел несколько решительных ударных движений в шею. Два хлопка с легким причмокиванием, утробный выдох и злой плевок достигли моих ушей. Ноги лежачего дважды качнулись в стороны и замерли.
Мама что-то бубнила себе под нос и ускоряла шаг. Я чувствовал, как в нее вползает страх. Рука ее вспотела и сделалась липкой, она то и дело опускала на меня взгляд и кивала, будто убеждала себя, что с сыном все в порядке.
Теперь, когда сошел с нее медицинский пафос, она поняла, что чуть не погибла сама и не погубила ребенка. «Глупость, глупость!» – говорило ее спешащее нервное тело. «Сильва, ты глупая женщина, разве можно так?!» – вторил окидывающий меня цепкий материнский взгляд. Армен сидел на полу возле пианино и листал толстую книгу с картинками. Он был напуган, смуглость его окрасилась серым; дети всегда понимают, что происходит за окном. Когда мы вошли, он быстро встал и начал тараторить что-то несвязное, наверное, от ужаса.
Перед сном мне не читали, как обычно. Работал телевизор, я лежал рядом с мамой и вспоминал убитого. Мне даже не было его жаль, я еще не приобрел способность сострадать людям, мной владел восторг нового знания, запах спеченной на асфальте крови будоражил меня неведомыми смыслами. Я понял одно. Понял, что убийство возможно. Армен сопел на соседней кровати, рот его был приоткрыт. Этот открытый рот напомнил мне убитого. Мы все умрем, дошло вдруг до меня. Умрет бабо, умрут мама и папа, умрет сестра Наташа, Надя, брат Армен, и я тоже умру, и никто не знает, где, когда и как это произойдет.
– Мам, а я умру?
– Что?.. А, ты… Нет, сынок, что ты… Что ты!.. Не думай… Спи… Господи…
Этот ответ только укрепил во мне правоту моего открытия. Я укрылся одеялом и прикусил кулак. Так я стал взрослым.
Подростком я не любил своего отца.
Не любил за частые замечания, за то, что заставлял подолгу корпеть над математикой, за то, что избегал мужских посиделок, что не пил и не курил, что подметал полы перед каждым приемом пищи, что был тихим и домашним. Идеалом мужчины мне виделся дерзкий, с сигаретой в зубах, крепыш, отпускающий веселые шутки, не переставая при этом быть опасным.
В то зимнее утро отец вошел в комнату, пересек ее и посмотрел в окно. Мело уже который день, снег все шел и шел, мороз только крепчал, и, казалось, не будет конца этой зиме: вот началась она, но уже никогда не закончится.
Нам – беженцам из некогда братской республики – выделили в горном пансионате, не так давно еще принимавшем работников Министерства промышленности, две комнаты, но печь стояла только в одной – в ней холодными зимами вся семья и собиралась.
Старшие сестры – Надя и Наташа – лежали и читали, я растапливал жестяную печь, бабушка – мать отца – сидела на полу и качала головой. Четырехлетний брат Арсен развлекал младшую сестру Ануш: прыгал по кровати и строил рожи. Мама уже с месяц как отбыла в Москву на заработки: стояла на рынке, разведя – точно Христос над Рио – в стороны руки, с которых свисали блузки и спортивные костюмы, купленные у знакомой на оптовой базе. Полуторагодовалая Ануш очень скучала по маме, по ее теплу и запаху, часто плакала и ныла, так что мы утешали малышку кто во что горазд.
– Да… вот тебе и солнечный край… – пробурчал отец, вглядываясь в метель, вставшую между ним и заснеженным ельником на пригорке.
На отце были старая кроличья шапка с проплешинами, в равной степени отливавшая бурым и фиолетовым, синяя синтетическая куртка, накинутая поверх потерявшего вид пальто, наброшенного в свою очередь на два свитера, футболку и майку, три пары брюк – сиреневые растянутые рейтузы, трикотажные штаны и синие брюки – единственная вещь, лишенная видимых изъянов. На ногах – бессменные ботинки фабрики «Скороход», купленные четырнадцать лет назад, еще в СССР, во время командировки в Ленинград. Собственно, это и был весь отцовский гардероб, вещь за вещью нанизанный на него, как на живой манекен. Остальные вещи отец распродал или обменял на еду еще осенью, когда иссякли все деньги и съестные запасы.
Мы только что позавтракали чаем из сушеных яблок, заев кипяток размоченными на дне кружек плодами. Данного рациона семья придерживалась уже вторую неделю, с того самого утра, когда бабушка – бабо – замесила последний стакан муки. Обнадеживал ящик детской смеси для Анушки, раздобытый мамой через знакомую медсестру. Мы старались не думать о еде, не говорить о еде; какой-то неведомый инстинкт защищал нас от голодных разговоров. Отсутствие пищи осложнялось отсутствием электричества, воды, транспорта, телефонной связи. Мы – дети – жили верой, что вот кончится зима, а там пойдут в горах сочные травы, что приедет мама и увезет нас в Россию к тетке, что как-то все разрешится. Наши подрастающие тела равно как требовали пищи, так и не допускали сомнений в хорошем исходе любого дела. Мы были оптимистами в силу возраста и обстоятельств.
Читать дальше


![Валерий Айрапетян - Дядьки [сборник]](/books/26970/valerij-ajrapetyan-dyadki-sbornik-thumb.webp)