– Топор… – пробормотал Петр, безотчетно следя, как бегут к конусу стеклянного шприца крупинки воздуха и как взмывает из иглы струя лекарственного раствора. – Раскольников какой-то…
Топор, который поразил безрассудную жертву супружеской привязанности, невольно присоединился к его бредовым видениям. В ночной круговорот снов, где сменялись знакомые картины – мрачноватого дома, старых часов из кипарисового, изъязвленного старческими пятнами, дерева, легкомысленной Лены, – теперь вклинился пудовый, в кровяных рябинах топор, широкий замах которого сопровождался в больной голове ревом богатырского Николаичевого храпа. Замызганная, грубая, замотанная тряпьем Катерина представлялась теперь Петру в ореоле роковой женщины, пробуждающей гибельные страсти среди медвежьего, богом забытого логова. Утром она, как обычно, скребла мешковиной пружинящие доски пола и, поджимая губы, отворачивалась от кроткого мужа, который молча восседал на сбитой простыне больничной койки. Потом, когда она выволокла из палаты ведро и хлопнула дверью, Петр услышал из коридора ее злобный голос:
– Нет и нет! Здесь я человек, мне деньги платят, я на них что хочешь куплю!..
Николаич молча вздохнул, прикинувшись, что Катеринины слова его не трогают. Разноцветный человек держался так спокойно, что Петр списал предположения о самовредительстве на счет девической фантазии восторженной Фаи, которая увлекалась книжными драмами, скучая в тихом захолустье.
– Как же ты… – пробормотал он, выходя из воспаленной пурги, которая заметала его причудливые мысли. – Без пальца…
Николаич вздохнул.
– Без пальца можно прожить, – протянул он, кривясь в ухмылке. – Без жены нельзя. Дура… я без пальца, а она с этим щелоком без рук останется… и куда?..
Петр, мысленно соглашаясь с жертвой семейственного фанатизма, провалился в сонную сумятицу, и, когда он очнулся, был уже вечер. Янтарный свет заката заливал чистую, вылизанную Катиными трудами палату, а сама Катерина с подоткнутыми, как для работы, юбками, стояла напротив Николаича и слушала своего чудного мужа, склонив голову. Тот, плавно помахивая марлевой клешней, словно дирижер, что-то тихо и гладко выговаривал беглой жене. Их нескладная пара токовала, забыв про все на свете и лучась таким самозабвением, что Петр невольно залюбовался этой поэтической сценой, которая утишала его взбудораженные бредом чувства. Он не разбирал, что говорил Николаич, но рокочущий, бархатный басок добровольного калеки звучал для него, словно колыбельная. Петр задумался и забыл про время. Потом Катерина очнулась, опустила подол засаленной тряпичной юбки и ушла.
На другой день Николаич выписался из больницы. Он сбросил чистое казенное белье и облачился в широкую холщовую рубаху, которая оказалась такой же пегой, как ее владелец: с разводами и слоями пота и пыли, въевшимися намертво в домотканое полотно. Сконфуженную, прячущую глаза Катю больничное начальство нехотя отпускало с супругом. Тот, держа здоровой рукой Катеринин узелок, помахал Петру на прощание обмоткой и сказал:
– Я свои дела устроил, а вы уж сами – как знаете…
Он выставлял, как щит, пораненную руку, головой кивал на Катю, и Петр не понимал, что он подразумевает, говоря, что устроил жизнь: жену, возвращенную столь героическим способом, – или отнятый палец.
– Здоровья вам, – проговорила, блестя наэлектризованными глазами, прихорошенная Катя, которая как никогда отталкивала Петра, считавшего, что бывшая уборщица не стоила подобных подвигов.
– Я не здоровья, – добавил Николаич. – А везения. Теперь лучше, чтобы всем везло.
К вечеру Петру стало легче, прошла лихорадка, температура упала, и радость начинающегося выздоровления потянула его встать наконец с постели. Он неловко, опасаясь за рану, с которой еще не сняли швы, поднялся и затопал по пустой палате. Ему показалось, что вокруг странно, неестественно тихо – только жужжала в углу назойливая, сбесившаяся от наркоза дезинфицирующих растворов муха. Одиночество, о котором он мечтал, воротя нос от странного существа, оказалось гнетущим. Печальный золотистый свет ложился на беленые стены. Петр медленно, собирая силы на каждый шажок, от которого чуть поскрипывали под ногой деревянные половицы, потащился в коридор. Придерживая порезанный бок, он приковылял к закрытой двери, за которой долдонило радио. Потом кто-то громко, с ужасом ойкнул, и Петр разобрал короткий всхлип, а за ним – плач. Дверь распахнулась, навстречу вылетела, закрыв лицо ладонями, потрясенная Фая, и непрошеный свидетель увидел, как оторопело зависла над столом с развалами больничных бумаг седая, прямая, как палка, Анна Филипповна.
Читать дальше





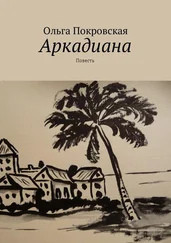
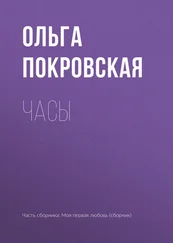


![Ольга Покровская - Мои южные ночи [сборник litres]](/books/386378/olga-pokrovskaya-moi-yuzhnye-nochi-sbornik-litres-thumb.webp)

