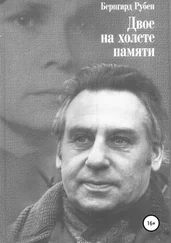Но – волны катившихся по стране массовых репрессий достигали во все края, и медвежьи углы тоже кипели в идеологической борьбе по примеру столиц, особливо там, где жители отличались грамотностью и эмоциональностью. В тот год везде яростно разоблачали прошлых и нынешних троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, искали и находили шпионов, диверсантов, вредителей, изощренно препятствующих построению социализма в СССР.
В Биробиджане тогда пустили слух, что Эммануил Казакевич, этот комсомольский поэт, яркая фигура среди колонистов и активный устроитель здешней жизни, еще вчера член областного комитета комсомола, арестован при переходе маньчжурской границы как японский шпион. Подобный слух мог исходить из самих «органов» для подержания нужного им общественного угара. Но одновременно такая версия помогла, наверное, уцелеть ее объекту – ведь коли он пойман и арестован, так и ловить более не надо, по крайней мере, в других концах страны… При невиданном количественном захвате и пропускной способности советской мясорубки в ее работе недоставало немецкого педантизма и скрупулезности.
Какой-то срок, чтобы не ставить под удар родных и знакомых в Москве, его семья переждала в белорусской деревне, а сам он появлялся то там, то тут, вроде бы и не прятался, но был настороже и не задерживался долго на одном месте. Потом, через год, когда Сталин убрал (сперва переместил, затем и расстрелял) своего преданнейшего подручного, наркома внутренних дел Ежова, исполнившего заданную ему роль, (и тем самым указал народу на виновника очередного «перегиба»), когда схлынул девятый вал репрессий и даже был дан слегка задний ход, Эммануил перевез семью под Москву.
Теперь он полностью ушел в творчество. Писал свои стихи, переводил классику и современных поэтов. Он продолжал писать на еврейском языке. И переводил на еврейский язык. Был тесно связан с московским еврейским издательством. Вскоре у него издали здесь новую книгу стихов. Одновременно он закончил комедию в стихах, начатую в Биробиджане. К нему приехал режиссер Биробиджанского театра, обеими руками ухватился за его пьесу и поставил по ней спектакль, шедший с большим успехом. Затем он взялся за трагедию о Колумбе, в которой впервые стал переходить на русский язык, и начал киносценарий о Моцарте, тоже по-русски. Он писал много. Занимался в библиотеке, изучая материалы и разрабатывая сюжеты. Ему надо было утвердить себя в литературе и кормить целую семью. А накануне войны, в мае сорок первого, был подписан в печать его роман в стихах на идиш «Шолом и Хаве», вышедший в свет, когда сам автор уже воевал на дальних подступах к Москве.
Известие о войне Эммануил воспринял с мгновенно охватившим его чувством личной причастности к грянувшему событию. Его давно притягивала армия. Еще в Биробиджане он носил армейские галифе, военный френч с ремнями, суконную фуражку с красноармейской звездочкой, зимой надевал шинель. Большинство биробиджанских знакомых, написавших о нем впоследствии свои воспоминания, так и запомнили его «человеком в шинели». Одежда эта еще сильнее подчеркивала его высокий рост и худобу. Он походил на комиссара времен гражданской войны и военного коммунизма, держал в себе этот образ. Но когда он на какой-то момент снимал очки, его близорукие глаза поражали своей добротой, незащищенностью, открытой доверчивостью, и он напоминал уже не сурового комиссара, а скорее Пьера Безухова.
В армии однако он не служил – из-за сильной близорукости его признали начисто негодным к воинской службе и выдали «белый билет». Эммануил был огорчен, уязвлен: мужчина должен все познать, через все пройти, закалить себя в испытаниях. Его привлекала военная героика. И претило даже в чем-то почувствовать себя изгоем. Он пытался уйти в армию с помощью отца, главного редактора биробиджанской газеты и члена бюро обкома партии. Не получилось, хотя отец и просил за него. Не помогло и письменное обращение в Москву, к наркому обороны.
По той же причине он остался в стороне от всеобщей мобилизации, когда началась война. Но как только ударил набат московского народного ополчения, он ушел на фронт добровольцем. Он был членом Союза советских писателей, и его зачислили в писательскую роту. Сборы его состояли главным образом в покупке запасных очков. Он рассовал их по карманам, в вещмешок и явился для отправки. Шли самые первые недели войны, и еще не угасла надежда, что фашистский натиск скоро будет пресечен ответными ударами наших войск.
Читать дальше








![Рубен Маркарьян - Ключевая фраза [litres]](/books/398656/ruben-markaryan-klyuchevaya-fraza-litres-thumb.webp)