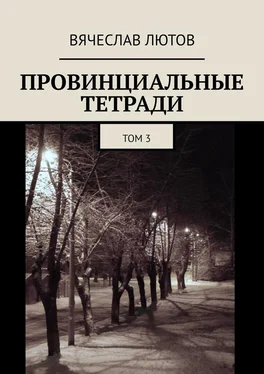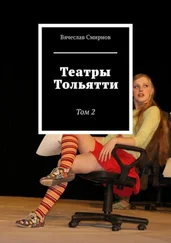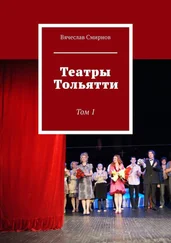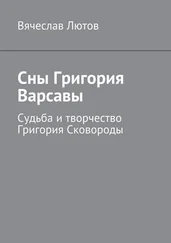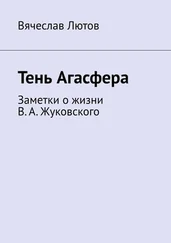Много позднее в своем «Благодарном Еродии» (пожалуй, самом ярком и очень мною любимом диалоге) Сковорода вынесет «тщетному миру» совершенно жестокий приговор: « Мир есть пир беснующихся, торжище шатающихся, море волнующихся, ад мучающихся… Мир есть море потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, торжище блудников, удка сластолюбная, печь, распаляющая похоти, лик и хоровод пьяно-сумасбродных, и не отрезвлятся, пока не устанут, слепцы за слепцами в бездну грядущие… »
Для того, чтобы это увидеть и ощутить, должности придворного певчего было вполне достаточно…
Капелла размещалась тогда в старом Зимнем дворце. Пусть и имевшая среди прочей дворни привилегированное положение, она жила своим весьма замкнутым и «подневольным» миром – бесконечные репетиции, церковные службы, концерты (в том числе и лично для императрицы чуть ли не в ее покоях), обязательные придворные торжества и банкеты «в царских палатах» (как в том знаменитом гайдаевском фильме). «Высшая публика» частенько подпияхом – в старом спектакле о том, как смазывается служебная лестница и чем намыливается шея. Но развлекается – по статусу…
Должности придворного певчего было вполне достаточно, чтобы «оценить», как методично, шаг за шагом, а то и вовсе нахрапом, власть меняет человека – как вкусившие плод гордыни мира неизбежно становятся пупом ада . Кстати, молодому Сковороде далеко не нужно было ходить – стоило лишь взглянуть на одного из своих земляков (не то дядьку по материнской линии, не то двоюродного брата), дослужившегося до камер-фурьера, забравшегося в белые чулки и расшитый золотом кафтан и невидящего ничего, что ниже по чину или «подлее по происхождению».
И еще об одном «петербургском аспекте». Так уж вышло, что именно возможность карьеры – главное завоевание и гордость Петербурга – оказалась для Сковороды лишь незначительным пустяком, безобразной безделицей, в которой нет ничего, кроме «лазания по головам». Между тем, как уже говорилось, у киевских воспитанников, особенно во времена Елизаветы, были весьма заманчивые перспективы и почти все шансы устроиться в государственной иерархии.
К слову, здесь же, в Северной Столице, оказался одновременно со своим учеником и Симеон Тодорский – востребовалось его великолепное знание немецкого языка, чтобы сначала подготовить к переходу в православие наследника престола Петра Карла Ульриха, а затем – через год – принцессу Ангальт-Цербстскую Софию Фредерику Августу, будущую Екатерину Великую.
«Послужной список» Сковороды окажется не в сравнение скромнее его учителя – он «выйдет в отставку» в чине придворного уставщика, старшего на клиросе…
И все же не будем столь принижать звание уставщика (хотя бы на фоне нынешнего тотального стремления во власть и к мирским вершинам). Капелла, пусть только краешком, но все же войдет в философский мир – микрокосмос – Григория Сковороды.
В своих сочинениях Сковорода изредка, но все-таки будет «апеллировать» в качестве сравнений или пояснений и к музыкальному ряду, и к театральным образам. Кстати, «сценический опыт» у Сковороды был – опера Хассе «Милосердие Тита», которую играли в Москве в 1742 году по случаю коронации Елизаветы (придворная капелла, естественно, выехала в белокаменную вместе со всем двором). В эту оперу впервые, как пишет в своих записках Я. Штелин, «были введены императорские придворные церковные певчие, числом около пятидесяти».
Другим отголоском «карьеры уставщика» являются несколько сочиненных Сковородой церковных напевов. Первый – на тему «Иже херувимы» – он сложил еще будучи в капелле. Другой, более поздний – пасхальный канон «Воскресенiе день» – даже вошел в общую церковную службу и известен как «Сковородин напев».
Стоит сказать, что музыка занимала немаловажное место в его жизни. М. Ковалинский рассказывал: «Он сочинял духовные концерты, положа некоторые псалмы на музыку, также и стихи, певаемые во время литургии… Он имел особую склонность и вкус к акроматическому роду музыки. Сверх церковной, он сочинил многие песни в стихах, и сам играл на скрипке, флейтравере, бандоре и гуслях приятно и со вкусом…»
Но сочинения появятся потом. А пока невероятно уставший от мишуры столиц (год в Петербурге, полтора в Москве) Сковорода мечтает вернуться в академию. Московское житье мало чем отличалось от петербургского (разве что вальяжности и барства побольше). Нужен был лишь повод проститься с ним. Наконец, «обвенчав» в Москве летом 1744 года будущую Екатерину П с Петром Федоровичем и «отпев» положенное на грандиозном по такому случаю празднестве, Сковорода (вместе со двором Елизаветы) вернулся обратно в Киев, где и получил – всеми правдами-неправдами – желанное увольнение.
Читать дальше