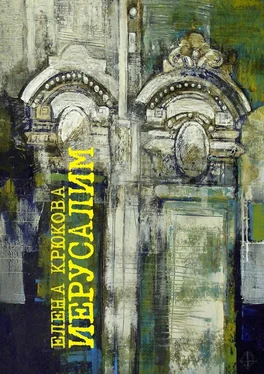Ее уводили с кладбища под руки. Снег визжал под сапогами. Вера оглянулась и поймала глазами черный чугунный крест. Под чугуном лежала ее мать.
Потом, в жизни, она работала еще на всяких-разных работах: сторожихой, кастеляншей в рабочем общежитии, укладчицей на кондитерской фабрике. Кондуктором мотаться по тоскливому асфальту ей до смерти надоело, к тому же у нее на глазах в автобусе зарезали молодую девчонку, Вера заступилась, а убийца взял да на Веру ножом замахнулся. Дело было в последнем рейсе, в салоне никого, девка лежит на полу, истекает кровью, а Вера хватается за бешеный, увертливый светлый нож. Да, светло, ярко лезвие сверкало. Будто огнем горело. Ладони у Веры оказались все крест-накрест порезанные, а она уж и не помнит, как визжала, как шофер автобус останавливал и в салон, грязно ругаясь, вбегал. Шофер сильный и смелый мужик оказался; парню тому руки скрутил. Парень пытался его укусить. Шофер вбил ему кулак в скулу. Вера сидела, уронив изрезанные руки на колени, и у нее по коленям и ногам текла ее теплая кровь.
Она отлежалась. Порезы зажили. Но что-то важное, теплое тот парень у нее внутри надрезал – никогда не думала Вера о том, что такое душа, сердце, и вдруг стала думать о них и их чувствовать. Сердце стало биться, быстро и неровно, задыхаясь, куда-то отчаянно опаздывая, а душа стала болеть, томиться и плакать, и Вера теперь понимала, как это, когда из глаз слезы не текут, а внутри все слезами просто обливается. Иногда эти слезы души прорывались наружу. Это могло случиться где угодно: в трамвае, на улице, на берегу Енисея, в пельменной, где она, промерзнув на остановке и не дождавшись железной повозки, жадно ела разваристые пельмени, обильно посыпанные молотым перцем, – и люди смотрели, как слезы щедро текут по ее лицу и стекают по шее за шарф, за теплый воротник. И Вера сидит, положив ложку на стол, и слез не вытирает.
Пыталась научиться вышивать: рукоделье, заделье, да как все бабы! Ниток накупила, иголок. На подушке-думке вышила красную шелковую дорожку. Не понравилась дорожка. Вера вышила еще красную плашку, поперек. Получился красный крест. Не понравился он Вере. Что за больница! «Скорая помощь», – ядовито шептала себе. Спорола шелк и снова вышила крест, другой: густо-черными, угольными нитками.
Чугунный черный крест. Как на могиле матери. В снегах. На белой наволочке.
Забросила думку в угол дивана.
Когда на диване придремывала, переворачивала думку крестом вниз. Он углем из неостывшей печи жег ей щеку.
Крест, даже спрятанный, казался ей громадной буквой, грозной буквицей: она нарисовала ее, а языка не знала, с которого слово на эту букву начинается.
У нее была любовь, но свадьбой не закончилась. Человек, что ходил к ней украдкой, забегал на час, на два, был женат и тяжко болен: носил в себе насквозь больные почки. Вере он сказал об этом не сразу. А тогда, когда она уже крепко прикипела душой и телом к нему. Она не просила его бросить ради нее семью – жену и сына; не упрашивала лечиться и выздоравливать. Она хорошо знала: от судьбы не выздоравливают, и надо тихо принять то, что тебе написано на роду. Хоронить любимого человека она не пошла: ей чудилось, она у могилы опять упадет и потеряет разум, но больше не очнется. А ей еще хотелось жить.
Годы шли, она жалела, что не родила от этого мужчины ребенка; а иногда воображала рядом с собою то мальчика, то веселую девочку, но смутно таяли в слезном тумане детские фигурки, ускользало из ухватливых, уже слабеющих рук детское сонное тельце. Дети! Не каждому дано испытать это счастье. Настал день, когда Вера, стыдясь и пригибаясь, будто кто ее тут увидит и уличит в неведомом преступлении, пробралась в Свято-Троицкий собор и, оглядываясь по сторонам, как рысь из-за колких еловых ветвей, купила икону и две толстых свечи. Икону она выбрала сама: прямо на нее смотрели огромные, широко распахнутые темные глаза, в их глубине ходил светлый огонь и вспыхивали яркие золотые искры. Глаза летели прямо в нее с крупно, во всю икону, изображенного мужского лица. «Спас Нерукотворный, Господь наш», – благоговейно сказала продавщица иконок и свеч и быстро, троекратно осенила, как осолила, себя крестным знамением. Вера отсчитала деньги, ее щеки заливала стыдная краска. Ничего не могла она с собой поделать: в церкви жгуче-стыдно ей было. Она засунула сверток в сумочку, пришла домой, повесила Спаса над телевизором, а свечи воткнула в старый подсвечник, подаренный ей на день рожденья ее мертвым возлюбленным. Зажгла. Свечи горели, чуть потрескивая. Вера сказала вслух: «Господи, пошли мне счастье». Одинокий голос ее прозвучал холодно и глухо под голым потолком нищей комнаты. Старый буфет, старый стол, старые стулья отзвучивали гулкой насмешкой. Свечной огонь отсвечивал в стеклах буфета, отражался в старом зеркале. «Я старая, я уже больше никогда не полюблю и не рожу», – подумала Вера о себе, и очень больно ей стало. Но слезы не лились. Их уже у нее в запасе не было.
Читать дальше