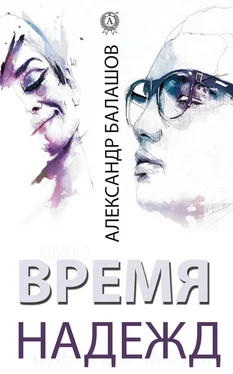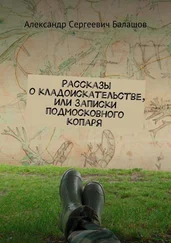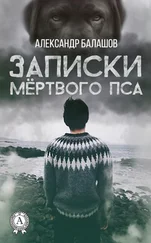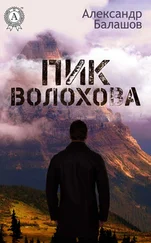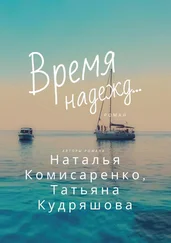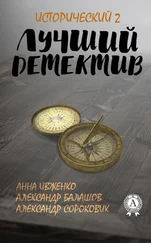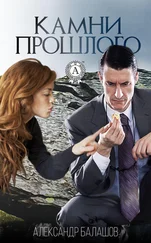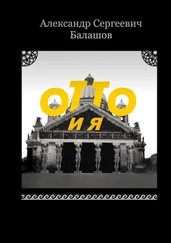Одна слабость у деда всё-таки была – любил он по вечерам слушать свой патефон. Делал Василий Петрович это тайно, будто стеснялся своего увлечения музыкой. Пьянство, прелюбодейство, богохульство, рукоприкладство, сутяжничество и доносительство – эти грехи односельчане и власти прощали с лёгкостью. А вот «роман с патефоном» могли бы поставить в укор благообразному старику. Даже мне казалось, что легкомысленный патефон как-то не шёл человеку с густой бородой, внешне похожему на священника. Даже сам настоятель Андросовской церкви Казанской Божией Матери, пока её не закрыли при Хрущёве, по моему убеждению, был меньше похож на попов, какими их рисовали в детских книжках, чем дедушка Вася со своей окладистой бородой.
Потому и слушал пластинки дед тайно, когда в доме никого не было. Как-то я застал деда, склонившегося над своим музыкальным ящиком. Он слушал Шаляпина, и борода его тряслась, чуть касаясь крутившейся пластинки. «Дед!» – окликнул его я. Он вздрогнул и обернулся. В глазах деда Васи стояли слёзы. Это были слёзы любви. Святые слёзы его тайной страсти к настоящей музыке. Так отзываться на песню в завораживающем шаляпинском исполнении могла только истинно русская душа, глубоко чувствующая каждое песенное слово, каждую ноту мелодичного рисунка.
Я гордился дедушкиным патефоном. И слушая его, каждый раз воображал себя тем, чей голос звучал с пластинки. Только патефон, а не корова Милка, дававшая по ведру молока за одну дойку, казался мне настоящим богатством нового дедушкиного дома. Дом этот он со своим зятем, дядей Серёжей, отцом моих двоюродных Жени и Вали, был поставлен вместо старой хаты. Старый дом сгорел в войну, когда наши солдаты выбивали из деревни немецких оккупантов.
Мало кто из его односельчан знал военную историю Василия Петровича. Даже своим близким людям он не рассказывал о своей военной службе. А ведь он, будучи уже далеко не молодым человеком, – то ли призвали в армию после освобождения Михайловского района, то ли сам напросился, – в артиллерийской батарее был приставлен к лошадям. Отвечал, так сказать, за «тягловую команду». Пришёл он с войны с медалью – «За боевые заслуги», но никогда и никому про эти свои заслуги не рассказывал. На все мои упорные просьбы, отнекивался: «Да какие там заслуги могут быть на войне? Лошадей и людей жалко было…».
Бабушка говорила про неугомонный дедов характер. Мол, пришёл с незажившей ещё раной на ноге и сразу за топор, пилу и рубанок – дом новый ставить. И через год семья из землянки-погреба перебралась в новый дом, пахнувший деревом и надеждами на мирное счастье. Тётки мои, родные сёстры отца, в письмах своих писали брату, отцу моему, оставленному в армии кадровым офицером, про то, как они все рады долгожданному новоселью. Приезжай, дорогой братик Митя – порадуешься вместе с нами. А братик Митя, пройдя всю войну, начиная с сорок первого и заканчивая победным годом, всё колесил со своей частью по необъятной стране. И не было у него, выходит, и недели для передыха в отчем доме – служба была такая, «сурьёзная», как её определяла бабушка. Но знаю, что он и за тысячу вёрст от андросовского дома радовался тому возрождению.
Чего не скажешь про некоторых соседей, которых я запомнил, когда родители, так и не заимев в начале 50-х годов своего жилья в гарнизонах, отвезли меня жить к своим родителям, моим, значит, прародителям – адросовским и мартовским дедушкам и бабушкам. Далеко не все соседи разделяли радость новоселья большой семьи.
Лесник Кузьмичёв, считавший, что дед за выписанный в правлении строительный лес ему чуть ли не жизнью обязан, очень ревностно относился к справному хозяйству Василия Петровича. Как же так? И дом новый «под железо» поставил и прибавил к своим «богатствам» ещё и животину разную – корову, стадо серых гусей, взвод уток, батальон кур да ещё и «поющий ящик», патефон с пластинками!.. Не по чину колхозного плотника, считал Кузьмичёв. И завистливый лесник, как человек, проводящий линию партии в жизнь, без устали строчил доносы на Василия Петровича, обвиняя его в «незаконной порубке государственного леса и активном участии в баптистской секте».
Особую ненависть соседа почему-то вызывал именно дедушкин патефон, переполняя душу бывшего борца с кулачеством, праведным партийным негодованием. А ведь дедушка на праздники выставлял «поющий ящик» на крыльцо дома, волею судьбы поставленного прямо напротив колхозного клуба, чтобы деревенская молодёжь культурно гуляла под граммофонную музыку, а не только под гармошку не всегда трезвого гармониста. Однако не помогала и культурно-просветительская дедова программа – соседи, глядя на растущее благосостояние колхозного плотника, тайно и явно желали, чтобы удойная корова окривела, а ещё лучше бы – вовсе сдохла. А у патефона бы лопнула бы пружина, и чтобы он век больше не играл свою музыку в новой хате «под железо». И хотя дедушка в ответ на косые взгляды и несправедливые слова говорил, что железо ржа съедает, а завистливый от зависти сохнет, я что-то не замечал, чтобы мордатый лесник хотя бы малость похудел от чёрной зависти своей.
Читать дальше