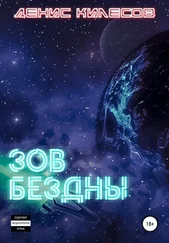Жизнь я начал в польской Варшаве, в русской семье, отец был чиновником. Ему надлежало существовать в системе сложившейся иерархии. Ее катехизисом, главным кодексом была, как известно, табель о рангах. Родитель мой в службе не преуспел, и ранг его был не слишком высок. Он мне запомнился своей сдержанностью, неразговорчивостью, печалью. Его самолюбие, безусловно, было болезненно уязвлено несостоявшейся карьерой. Был он из тех, о ком говорят: «Вот наконец – человек с правилами». Этой оценкою он утешался: «Моя репутация – это то, чего у меня никто не отнимет». Однажды я у него спросил, считает ли он свою жизнь удавшейся. Он помолчал, потом произнес:
– Помни, что мир несовершенен. Несовершенны и люди в нем.
– И ты? – спросил я.
– И я. По-своему, – сказал он после недолгой паузы. – Я и хотел, и стал его частью.
Я тоже был невысокого мнения о том, как устроено мироздание. Однако в отличие от отца – стать частью системы я не хотел.
Каждому юному человеку в свой срок положено пережить поистине роковые часы встречи со своим собственным жребием. Одни называют его призванием, другие судьбою, а третьи – выбором. Я предпочел свой путь протестанта.
Наш скифский драматический путь от лжи Византии до Третьего Рима с его православным языческим варварством, прикрывшимся заповедями Христа, должен был отрезвить еще в отрочестве, когда я впервые дерзнул задуматься, как переделать доставшийся мир. Но нет, я решил, что мне по плечу поднять затонувшую Атлантиду, вернуть гармонию и справедливость.
Храброму птенчику позволительно думать, что нет непосильных дел, что он наделен геркулесовой мощью. Но я и в зрелости не повзрослел. Так и остался тем русским мальчиком, который уверен, что именно он спасет неразумное племя людское.
Я был готов и к петле, и к пуле, готов был к подполью и бесовщине, которой нас устрашал Достоевский, я был готов к любым испытаниям, но не к тому, чтоб умножить собою те миллионы двуногих тварей, когда-то ужаснувших поэта.
И Пушкину довелось ощутить, как властно влечет в свое лоно бездна. Иначе не явились ему бы эти пронзительные слова об упоении в бою и на краю открывшейся бездны. Ведь неслучайно ему почудилось, что в этой бездне, возможно, есть залог бессмертия, некой истины.
Что ж, он действительно был всевидящ. Мне даже трудно понять, как сочетался его безграничный, какой-то даже анафемский ум с такой поэтической безоглядностью. Думаю, он и сам был смущен тем, что они столь легко и естественно сосуществуют в его глубинах. Он неспроста подарил нам однажды свое беспощадное наблюдение – поэзия в сути своей глуповата. Должно быть, ему не вполне уютно было творить и жить с таким сокрушительным интеллектом. Все понимал, всему знал цену, но это не спасло ему жизнь. Последнее слово всегда остается за темпераментом, жаром сердца, за тайной, лежащей в основе личности.
Я понимаю всю свою малость рядом с таким исполином духа. Но общий закон непререкаем. И чувство, а не холодный разум (хотя я и не был им обделен), всегда диктовало мне все решения, все мои действия, выбор цели.
Меж тем, я умел таить свое пламя. И те, кто знал меня даже близко, не говоря уж о прочих людях, которых держал я на расстоянии, считали меня рационалистом, умеющим контролировать страсти.
Но это было совсем не так, и те, кто думал подобным образом, всегда за-блуждались. Причем – жестоко. Страсть неизменно определяла мои поступки, страсть предваряла мой каждый шаг. Это она не дала мне смириться и разделить судьбу эмиграции. Будь я неспешней и рассудительней, я бы давно сообразил, где обретается подлинный враг.
Мудрейший человек на земле, эллин по имени Аристотель, еще на самой заре истории понял, что многократно страшнее, непримиримей и исступленней борьба, возникающая меж однодумцами.
Но я растратил немало сил, щедро отпущенных мне природой, на то, чтоб крушить привычных демонов несчастной русской интеллигенции – властей предержащих и их сановную, жалкую, ничтожную челядь.
Подобно многим моим ровесникам, я отдал молодость и запал борьбе с хрестоматийным противником, не видя истинного врага. Не понял, что он – по эту сторону, в опасной близости, что стране моей лишь предстоит в недалеком будущем столкнуться с подлинной тиранией, рядом с которой вся жандармерия, охранка, полиция, администрация – окажутся глиняными болванчиками.
А между тем мне выпало знать своеобразного господина, который меня остерегал, даже предсказывал отрезвление. Он говорил мне, и не однажды: чем оно позже придет, тем будет невыносимей и смертоубийственней.
Читать дальше





![Денис Килесов - Зов Бездны [litres самиздат]](/books/436949/denis-kilesov-zov-bezdny-litres-samizdat-thumb.webp)